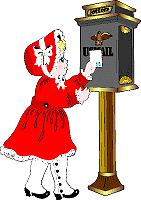II. Часть первая: Исторические корни
Глава 1: Релятивизм, невинность и зло
Глава 2: Сексуальный ребенок
Глава 3: Фигуры, угрожающие ребенку
Глава 4: Дети и реформаторские движения
Глава 5: Корни сексуального изверга
III. Часть вторая: Педофилия и массовая культура
Глава 6: Образы как зрелище
Глава 7: Злодей как зрелище
Глава 8: Жертва как зрелище
Глава 9: Зрелище как гиперреальность
Глава 10: Критика и настойчивость
IV. Послесловие
Примечания
Фильмография
ПЕДОФИЛЫ НА ПАРАДЕ
Популярные образы моральной истерии
Вступление
Основой истерии 1980-х годов по поводу секса между молодежью и взрослыми было использование стереотипных образов злодея, жертвы и героя. Стереотипы - это смесь правды и фантазии, точного восприятия и искажающих тревог. Главная ошибка заключается в утверждении, что они универсальны и вечны, и ошибка усугубляется от фарса до трагедии, когда карикатуры используются для диктата социальной политики и регулирования межличностных отношений. Поскольку в основе образов лежит тревога (часто на патологическом уровне), принуждение обычно бывает жестоким. Чтобы быть эффективными, стереотипы должны состоять из элементов, знакомых обществу, и из компонентов, используемых достаточно часто, чтобы казаться божественной истиной или здравым смыслом. Поэтому неудивительно, что образы 1980-х годов имели долгую и часто достойную уважения историю. Стереотипный растлитель малолетних (как и герой-спаситель) уходит корнями в древние культуры, но концепция жертвы, с которой мы знакомы, создана более недавно.
Со временем образы сохранили значительную согласованность, независимо от того, в чем проблема. Это связано с ограниченным диапазоном значений, предоставляемых культурой для конкретного использования. Намерения, лежащие в основе этих изображений, заключаются в том, чтобы разубедить и наказать; чтобы сделать и то, и другое, актеры, которым присваиваются эти характеристики, должны подвергнуться сильной стигматизации. Усилия, направленные на это, требуют значительной энергии и целеустремленности. Значительные культурные ресурсы (особенно экономические и политические) мобилизуются и поддерживаются в широком масштабе отдельными лицами и учреждениями, заинтересованными в установлении единой веры и подчинения, а не в расследованиях и разногласиях. Это становится проще и приемлемее, если рассматривать проблемы и действующих лиц как развлечение, Социальные проблемы поднимаются и представляются — и оцениваются — в театральных терминах.
Некоторые образы меняются в привлекательности или полезности, особенно образы злодейства и жертвы. Популярность идей, как и образов, также растет или падает в зависимости от более широких культурных контекстов поддержки, критики или незаинтересованности. Демократия, целое, большее, чем сумма его частей, возникающее из конгломерата самостоятельно выбранных “прав” и “свобод”, является одним из таких изменчивых человеческих желаний. Будь то оптимистический подъем или ностальгический крах, потребители современной западной культуры можно быть уверенным, что его реализация или исчезновение будет забавным, если не прибыльным.
1
РЕЛЯТИВИЗМ, НЕВИННОСТЬ, И ЗЛО
Любое обсуждение “педофила” - это в то же время обсуждение “ ребенка”, указывающее на фундаментальные идеи, намерения и практику, окружающие молодых людей. Начиная с середины 1970-х годов политика педофилии мыслилась и осуществлялась в культурном контексте, который настаивал на различных исторических потребностях, судьбах, которые должны быть выполнены в силу всемогущей божественной воли, врожденных человеческих побуждений или безукоризненного административного указа. Не допуская ни сомнений, ни критики, было сказано, что набор событий и условий — некоторые из которых были воображаемыми, все из которых были произвольными — неизбежно возобладают из-за их преобладающей и непреодолимой силы.
I
Физическая реальность ребенка была постоянной в человеческих сообществах. Что менялось, так это границы между тем, что называлось “детством” и “взрослой жизнью". В зависимости от этого менялись представления о внутреннем содержании подростка и о том, каким могло бы быть будущее, физическое и духовное, этого существа. Эти представления, давние догматы классической антропологии, имели ограниченное влияние на науку до 1962 года, когда был опубликован английский перевод книги Ариеса "Столетия детства". Американские исследования по истории, интерес к детству продолжает расти у многих практикующих врачей, большинству из которых в своей карьере приходилось ссылаться на “тезис Ариеса”.
Ариес предположил, что, по крайней мере, в какой-то конкретный момент понятие “ребенок” не существовало. Его точка зрения заключалась в том, что тот тип ребенка, с которым мы знакомы, является относительно современным понятием, конструктом, который медленно эволюционировал из постфеодальной Европы в ныне знакомые формы в 17 веке. Хотя этот тезис дал ученым нечто определенное для исследования, он также определил точку в политическом континууме. Позиция о том, что были времена, когда идеи детства не существовало, угрожает взглядам, которые настаивают на стабильности, постоянстве и универсальности культурных категорий. Оспаривание идеи фиксированного и универсального детства привело к тому, что было пролито немало чернил — отчасти потому, что Овен также оспаривал “семью”. Овен и другие продемонстрировали, что семья - это изменчивое социальное устройство.
За последние несколько десятилетий секторы американской культуры выдвинули одну из многих возможных форм в качестве единственной “естественной” группировки: небольшую частную, эмоционально насыщенная гетеросексуальная единица, ориентированная на ребенка. Семья по-прежнему представляет собой релятивизм, однако в конце 20-го века изменились и расширились определения того, что представляет собой семья. Какой бы ни была ее форма, семья в настоящее время гораздо менее приватна и подвергается все большей колонизации со стороны государства. Геи и лесбиянки, особенно в качестве приемных родителей, в течение этого периода подвергались многочисленным притеснениям, причем некоторых детей против их воли забирали из их домов.[1] Супружеские пары, когда один из членов семьи является подростком, также могут подвергаться жестокому обращению. A шестнадцатилетний мужчина, женившийся на женщине постарше, был выселен из своего дома и помещен в учреждение для “психиатрической экспертизы” по решению суда (Ivy 1988).
Примерно через десять лет после выхода книги Ариеса некоторые ученые начали представлять доказательства, которые уточняли или противоречили некоторым из его утверждений. Шорш (1979) предполагает, что самое раннее указание на особенность детей можно найти в изображениях “путти”, сверхъестественных младенцев, символически ассоциирующихся с любовью и смертью. У свободнорожденных детей в Древнем Риме был уникальный костюм с пурпурной каймой, чтобы различать их (Фаулер, 1896). Подростки классических времен, возможно, не представляли особого интереса для своих родителей, помимо их статуса домашней прислуги, но существовали обширные суррогатные семейные связи для их воспитания и ухода за ними, и молодые мужчины нередко пользовались большим уважением как любовники.[2]
Ряд историков зафиксировали внимание и заботу о детях начиная с 12 века. Озмонт (1983:144) сказал, что средневековые теологи привлекали подростков к ответственности за их действия, когда они достигали шести или семи лет. Это согласуется с культурами, в которых на людей могут быть возложены взрослые обязанности, статус и льготы в возрасте от пяти до восьми лет (Рогофф и др., 1975). Позже, в 16 веке, в некоторых частях Европы детство было продлено примерно до двенадцати лет для женщин и примерно до четырнадцати для мужчин, после чего оба пола могли вступать в брак. Однако еще в 17 веке в некоторых частях Франции переход к взрослой жизни происходил в возрасте от пяти до восьми лет.[3] Как правило, до 18-го века предположительно существовал небольшой “разрыв между поколениями” или его вообще не было из-за близкого и постоянного общение молодежи со взрослыми в большинстве сфер жизни.
II
Американское общество с самых ранних времен представляло собой сложную плюралистическую смесь, и некоторые различия между его субкультурами были резкими. Билс (1985) говорит, что культурные образцы XVII века в регионе Вирджиния/Мэриленд были значительно менее стабильными, чем пуританские анклавы в районе Чесапика; Рутман и Рутман (1979) подчеркивают, что на англо-американском побережье XVII века существовало “два совершенно разных типа детства”. Хотя это, безусловно, было не так, та единственная социальная и религиозная система в Америке, пуританизм стал распространенной и долговечной частью нашего культурного наследия. Считалось, что между мыслью и делом практически нет разницы, и кальвинистская политика отождествляла личный грех с общественным преступлением, во многом так же, как это делают современные фундаменталистские группы и психотерапевты; в то время как пуритане кодифицировали эти ценности в законе и наказывали преступления веры, а также действовали. Индивидуализированная неприкосновенность частной жизни и свобода не имели большого значения в 17 веке, идеям и “правам” еще предстоит развиться в современной форме. Некоторые историки полагают, что пуритане не видели в детстве ничего особенного. Флеминг утверждал перед Ариями, что общая концепция ребенка оставалась довольно стабильна с начала 1600-х годов на протяжении 1700-х годов, потому что на них смотрели “как на миниатюрных взрослых, и те же средства и опыт считались подходящими как для них, так и для тех, кто постарше” (1933:59f). Аналогичным образом, Стэннард (1977; 46f) подтверждает, что “жители Новой Англии семнадцатого века...у них взгляд на природу и способности детей, совершенно отличный от того, которого придерживались родители двадцатого века”.
Родители, возможно, были несколько снисходительны к младенцам, но примерно с годовалого или двухлетнего возраста родительский авторитет становился все более суровым. Ожидалось, что пуританские дети в 1600-х годах начнут вести себя как взрослые, когда им исполнится шесть или семь лет, в соответствии с европейскими традициями. Подростки в возрасте от шести до пятнадцати лет могли быть размещены вне дома в других семьях для обучения или в качестве домашней прислуги. На этих должностях служили как мужчины, так и женщины, обычно до достижения ими брачного возраста; ученичество могло длиться целых десять или пятнадцать лет. До тех пор в середине 19-го века американские дети в целом были настоящими работниками в домашних хозяйствах, которые были активными и жизнеспособными экономическими единицами в относительно сплоченных сообществах. Они рано стали “взрослыми”, потому что их труд и членство были полезны и необходимы для экономических и социальных институтов того времени. В некоторых случаях ученичество могло быть средством карьерной мобильности, особенно для мужчин из более бедных семей. Однако чаще всего эта система (особенно на более поздних этапах, когда деревни превращались в поселки, а затем и в крупные города) становилась способом контроля “отклоняющиеся от нормы или бедные...в то время как их хозяева получали дешевую рабочую силу” (Фарбер 1972:35). Что касается женщин, то, будучи привязанными к дому в качестве домашней прислуги, они допускали случаи сексуальной эксплуатации со стороны своих хозяев или членов семьи своего хозяина.[4] С другой стороны, можно не сомневаться, что были и восхитительные случаи классовой подрывной романтики.
Хотя пуританское влияние сохранялось на протяжении 1700-х годов, оно никогда не было универсальным набором верований или практик. Его упадок в конце 17 века сопровождался уходом семьи из того, что оно считала важным, общество становится все более враждебным и чуждым. Томпсон (1986:96) считает, что патриархальная власть начала “отступать" в это время, но она просто изменила свое культурное место, голос и методы манипулирования. Современное американское представление о ребенке начало формироваться в середине-конце
XVIII века примерно в то же время, когда выкристаллизовалась современная версия семьи, примерно с 1735 по 1830 год (Wishy 1968; Degler 1980). Это соответствует периоду повышенной эмоциональности в семьях, наряду с ростом равенства и уважения между родителями и детьми до такой степени, что Американские модели отношений резко отличались от европейских стилей. Иностранные наблюдатели были поражены открытой привязанностью в семьях, а также независимостью и оскорбительной агрессивностью американских детей (Rapson 1965; Walzer 1974: 358). Отчасти этот новый эмоционализм привел к сентиментализации детей, которая достигла причудливых масштабов во второй половине 19-го века, а затем снова в 1980-х годах. На протяжении 1700-х годов все еще существовало сильное двойственное отношение к детям. Уровень смертности все еще был высок, и остатки пуританских взглядов на детей как на неотъемлемое зло сочетались с растущим недоверием к внешнему релятивизму, общество исказило многие благожелательные побуждения, чтобы создать некоторые довольно неприятные учреждения по уходу за детьми.
Англоязычные дети становились все более дифференцированными по возрасту и полу по мере того, как 18 век шел своим чередом. Родители были несколько снисходительны, но делали сильный акцент на “правильном” поведении. В преддверии викторианства 19-го века многие мужчины в 1700-х годах были воспитаны в “высокомерном и преувеличенно мужском духе”, в то время как многие женщины были воспитаны как “кокетливые, но легко обижаемые” (Д. Смит 1980:72). Отчасти это было связано с развитием в конце 18 века чувства человеческой иерархии; люди, будь то по расе, полу, классу или возрасту, все больше и больше распределялись по статичным категориям, “сферам” и уровням развития. Молодежь всегда была сегрегирована по религиозному и расовому признаку, и небелые, как правило, получали остаточные ресурсы. Большинство афроамериканских детей на Юге начинали работать на полях в качестве рабов примерно в возрасте семи лет и оставались в таком положении до конца своей жизни. Южные штаты прославились своими законами, запрещающими обучение грамоте африканских и афроамериканских детей. Сексуальные домогательства и эксплуатация молодежи-рабов были обычным явлением. В 1861 году Харриет Джейкобс вспоминала (1988:44) об успехах, сделанных ее учителем средних лет, когда ей было 15 лет:
Он делал все возможное, чтобы извратить чистые принципы, привитые моей бабушкой. Он населил мой юный разум нечистыми образами, которые могли прийти в голову только мерзкому монстру. Я отвернулась от него с отвращением и ненавистью.
Также появляется растущая материальная культура для детей в виде игрушек, мебели, книг и модной одежды. Именно в этот период зарождается детский рынок как экономический. По мере того как молодые люди оказывались в центре внимания семьи, они меняли свою роль с производителей на потребителей — сначала с помощью своих родителей, затем позже самостоятельно. Роли родителей и концепция взрослой жизни также менялись в это время; изменения в самооценках взрослых и их восприятии своего мира влекут за собой изменения в представлениях о детях и детстве. К началу 19-го века белый средний класс культивировал семейное содержание, характеризующееся значительно обострившимся стремлением к достижениям, подавлением чувственности и культивированием личной потребности в эффективной, всемогущей власти.
В то время влияние на семью было сильным, сложным и часто противоречивый. Например, в конце XVIII века было много волнения и оптимизма по поводу возможностей французской и американской революций. Однако позже им часто противостояли ситуации, которые требовали меньшего идеализма (например, экономическая депрессия) или призывали к подавлению и наказанию либеральных идей в периоды антидемократической реакции, семья среднего класса начала 19-го века становилась меньше с меньшим количеством детей. Эволюция самой идеи “дома” достигает современных форм примерно в это время (Rybezynski 1986); идеи и меньше родственников по месту жительства, домашняя обстановка, комфорт, интимность и уединение приводят к увеличению эмоциональных инвестиций, которые родители вкладывали в своих детей. Люди чаще, чем предыдущие поколения, вступали в брак на основе взаимной привязанности, а роли и ценности менялись по мере того, как из угасающей куртуазной любви начали возникать новые формы романтической традиционной любви, усиливая эмоциональное давление в семье. Домашнее хозяйство стало гораздо более ориентированным на детей, что привело к усилению давления с целью “правильного” воспитания детей, а также к последующему давлению на самих молодых людей, чтобы они были “правильными”.
Значительный сдвиг в структуре семьи уменьшил ответственность отца за равную роль в уходе за ребенком и его воспитании - ранее уважаемая отцовская традиция, которая распространялась, по крайней мере, еще в 16 веке. К середине 19-го века многие отцы были относительно далеки друг от друга, и жена из среднего класса теперь была главным агентом по уходу за детьми. В это время была выдвинута важнейшая концепция, подкрепляющая эту модификацию ролей: говорилось, что “материнская любовь” врожденна у всех женщин (Деглер 1980; Льюис 1989). К середине 1800-х годов куклы стали коммерчески массово производимые и широко рекламируемые. На рубеже 20-го века ученые настаивали на том, что девочки по своей природе предпочитают кукол. Куклы использовались для обучения гендерным навыкам и ролям. “Социологи...использовала существование кукольных игр, в значительной степени созданных взрослыми, чтобы доказать существование того самого материнского инстинкта, который девочка и ее кукла стали символизировать”, - говорит Мотц (1982:64).
В этот период молодые люди снова стали значимыми проводниками чаяний других. Они стали размышлениями не только о себе, но и о своей семье и общество в целом. Детство, примерно до двенадцати лет, в начале 1800-х годов все еще было довольно серьезным периодом, временем подготовки к будущей социальной и экономической жизни. Идея о том, что детство само по себе является ценным периодом, предположительно свободным от забот и ценностей взрослых, концептуально появилась в это время, но получила полное выражение лишь позднее в этом столетии. Незадолго до гражданской войны возникла моральная необходимость в воспитании детей, реакция на социальную и экономическую нестабильность того времени, отчасти обусловленную, многие влиятельные религиозные реформаторские движения тогда были в самом разгаре. На короткое время наметилась тенденция к гуманным стилям воспитания и образования детей, но тревога и пессимизм, распространившиеся по всей стране по мере приближения войны, сделали особый акцент на обучении детей тому, что сейчас кажется жесткими представлениями о порядке, послушании и религиозности. Половые различия по-прежнему имели первостепенное значение, и мужчин обычно воспитывали в административных идеалах независимости, патернализма и бережливости, в то время как женщины получали домашние ценности семейной любви, воспитание и чистота. Постепенно молодежь все больше и больше выделялась как существо, отличное от взрослых или даже противопоставляемое им. Традиционные общности общения и опыта между поколениями уменьшались или устранялись. Эмоциональное внимание к детям усиливалось по мере того, как их дольше держали дома.
Наряду с этим новым культом ребенка появился культ домашнего уюта, который окружал женщину как жену и мать. Женщины и дети стали более тесно отождествляться друг с другом, чем раньше, и как символы чистоты и мудростью они были еще больше отстранены от больших сегментов повседневной жизни за пределами дома. Эта мысль не была особенно новой и присутствовала в течение некоторого времени; лорд Честерфилд сказал в 1748 году, что “женщины - это всего лишь дети более крупного роста” (Rowbotham 1973:15). Но в большей степени, чем в прошлом, женщины и дети проявляют относительность, тесно идентифицированы физически и считались идеалами красоты и чистоты.[5] Они также считались похожими эмоционально; они были подвержены легкому отвлечению внимания и скуке, им не хватало “рациональности” и “дисциплины”, и они содержали врожденную мораль и доброту. И женщины, и дети были юридически инфантилизированы, экономически ограничены и подвергались двойным стандартам сексуальности. Женщины и дети прочно закрепились как остаточные категории; не мужчины, не взрослые. Женщины могли стать взрослыми благодаря материнству, но им все равно приходилось сохранять качества и характеристики детства; девичество на самом деле было предпочтительным состоянием. Сдвиги происходили и в восприятии эротики. Они, казалось, больше склонялись к молодости.[6]
После гражданской войны перемены произошли быстро. Плюрализм стал более заметным, на него обратила внимание быстро растущая, ориентированная на сенсации новостная индустрия. После войны у некоторых возникло чувство обновления, но опустошение было повсеместным. Идеалы реконструкции рухнули из-за коррупции, произошла одна из самых продолжительных и тяжелых депрессий в истории Америки (1873-79), индустриализация породила всепоглощающие тресты, а обширный личный опыт преступной деятельности правительства озлобил многих. Особый страх усилился в конце 1800-х годов, когда большое количество мигрантов поселилось в городах. Там был переход от обвинения институтов в экономических и социальных бедствиях к осуждению индивидуальной воли и расовой конституции. Средства массовой информации рекламировали иностранцев как обоюдоострую угрозу: они не только считались расово неполноценными и экономически опасными, но и рекламировались как сексуально хищные и особенно опасные для детей. Недавний поворот к восприятию эротических возможностей у молодежи столкнулся с гораздо более старыми и массовыми установлениями религиозной сексуальной вины. Открылась вакансия отвлекающего, но занимательного козла отпущения. Символическая нагрузка на ребенка становилась все тяжелее и требовательнее. В этот период развитие способности “развиваться” помогло привлечь сложные институциональные силы за пределами семьи для наблюдения за молодежью и ее определения. Защищаясь, семья сдерживалась, но в сотрудничестве пыталась выполнять инструкции, выданные новой группой экспертов, которые взяли на себя больший контроль над государственными учреждениями.[7] Из этих двух движений развилась сложная созависимость, и в 1970-х годах вновь с ожесточением вспыхнула борьба между независимой семейной жизнью и профессиональной деятельностью и государственной властью.
Хотя ученые расходятся во мнениях относительно границ детства, они в большей степени согласны с тем фактом, что “подростковый возраст” - понятие совсем недавнее. Многие сейчас думают о подростковом возрасте просто как об еще одном неизменном, неизбежном и естественном этапе жизни. Из-за своей тесной связи с половым созреванием подростковый возраст, по-видимому, предписан биологией. Именно эта связь с репродуктивными способностями и сексуальностью делает подростковый возраст особенно неприятной идеей и периодом жизни для обществ, которые рассматривают секс и молодежь как проблемы. Какое-то время в популярных средствах массовой информации создавалось впечатление, что возраст полового созревания снижается и будет продолжать снижаться. Мужчины в начале 19-го века достигали своего взрослого роста примерно в двадцать пять лет, но сейчас это происходит примерно в двадцать; у женщин в начале 1800-х годов менструация начиналась примерно в возрасте пятнадцати лет, тогда как сейчас она часто начинается примерно в двенадцать. Такое снижение, однако представляет собой исторически гибкую биологию, изменения в которая происходят в основном из-за улучшения социальной среды и питания, а не из-за какой-либо конкретной эволюционной тенденции.[8]
Подростковый возраст как концептуальное изобретение связан с урбанизацией и индустриализация, которая происходила с середины 18-го века; к середине 19-го века молодежь стала обычной частью городского ландшафта, но исследователи обнаружили свидетельства существования сплоченных групп в возрасте от 14 до двадцати пяти лет еще в 13-м веке. Тогда такие группы часто рассматривались как “банды мародеров”, что было похоже на восприятие молодежных групп в императорском Риме.[9] Хайттунен (1982:26) цитирует "Обязанности молодых людей" Эдвина Чапина (1840) о молодежи на свободе:
... дикая, лишенная цепей и опасная тварь — бродит, как какой-то ужасный принцип в природе, не связанный с фиксированными траекториями движения планет и не подчиняющийся какому-либо известному закону порядка, угрожающему объединить и сокрушить миры.
Подростковый возраст был идеей, реализованной в значительной степени благодаря интеллектуальным и политическим манипуляциям отдельных лиц и учреждений, которые назначили себя заботиться о молодежи и регулировать ее, особенно о молодежи, угрожающей размножением, и размножаться в больших количествах. Подростковый возраст был изобретен по мере того, как множились социальные и психологические пути к взрослой жизни. Нервозное предоставление периода колебаний в качестве средней точки было способом попытаться стабилизировать и зафиксировать конечные точки линейной схемы. Детство и взрослая жизнь рассматривались как дискретные и однородные состояния, а подростковый возраст допускал более тонкие различия вариаций, которые могли быть приняты как нормальные или отвергнуты как девиантные. Подростковый возраст стал способом освобождения некоторых молодых людей (в основном мужчин) от определенных видов труда и назначения других в качестве военных ресурсов (Firestone 1970:81), а для мужчин и женщин - способом координации сексуального контроля (Hawes 1985). Первоначально подростки считались беспокойными, беспечными и угрожающими. Примерно с 1880-х по 1920-е годы официальное определение подростков изменилось на пассивное, неуклюжее и уязвимое (особенно эмоционально).
Границы детства, юности и взрослой жизни размыты и смещаются в соответствии с противоречивыми требованиями семей, культурных властей, экономики и политическими требованиями государства. Некоторые молодые люди могли жениться в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет или стать солдатами в семнадцать или восемнадцать, но не могли голосовать или оформлять определенные юридические документы до восемнадцати или двадцати одного года. Статус подростка, как и детства, все еще находится в движении. Некоторые социальные критики опасались “конца” обеих категорий (Фриденберг 1959; Постман 1982); другие требовали их уничтожения (Файерстоун 1970). В конце 20-го века происходит очень непростое, неуклюжее и дорогостоящее переопределение людей в возрасте от девяти до четырнадцати лет относительно их надлежащей категории и возможностей, особенно их сексуальных способностей и возможностей выбора. Как и многие другие манипуляции, разработанные в условиях неопределенности, эти усилия, по-видимому, не направлены на беспристрастное понимание каких-либо реальных способностей этой возрастной группы и не направлены на расширение их социального влияния, а скорее представляют собой попытки политической стабилизации, релятивизма, успокоение тревог взрослых, культурная гомогенизация и обеспечение контроля над поведением. Всестороннее изучение культурных ценностей или объектов, по-видимому, возникает только тогда, когда эти элементы воспринимаются как находящиеся под угрозой исчезновения (Ван ден Берг 1964:234). Это правда, что исследование областей, которые ранее считались полностью понятыми и согласованными, указывает на сдвиги в культурном порядке, и такому исследованию часто сопротивляются или наказывают. Идея детства как неизменной сущности в значительной степени зависела от гегемонии психологии, которая не только заявляла о детстве, как о естественной категории, но и о детях как о своей собственной области, рекламируя себя как наиболее достоверный источник знаний по этому предмету. Развитие истории и социологии детства бросило вызов этому, документируя вариации и выявление идеологических предубеждений в дисциплинарных традициях.
Изменения в детстве не были линейными, и один этап не обязательно предсказывал следующий. В любой момент времени сосуществуют несколько представлений о детстве и воспитании детей. Аналогичным образом, сексуальные способности и интересы не всегда приберегались для более поздних этапов человеческой жизни; детям в разное время и в разных местах разрешалось или поощрялось в разной степени сексуальное наслаждение и ответственность. Эти категории, даже те, которые считаются наиболее фундаментальными, в значительной степени являются продуктом социально-исторические обстоятельства. Дженкс (1982) отметил, что представления о детях предполагают общность опыта (“когда-то мы все были детьми”) и отсутствие других связанных категорий, таких как “взрослость”. Физический рост придает вес этому натуралистическому взгляду и покрывает телеологические ценности идеями биологической “нормальности” и здоровья. С этой точки зрения вариативность оценивается негативно как “отклонение” или “неестественность”. Таким образом, то, что утверждается как объективные эмпирические сущности, является категориями, привязанными к сетям значений и поведений. В течение почти столетия предполагалось, что такие идеи, как “гомосексуальность” или “детство”, являются реальными объектами в мире и, что более важно, что они представляют собой фиксированные элементы универсальной и вечной моральной иерархии. Определения каждой из них влекут за собой неявные определения других областей (обычно их полярных противоположностей). На самом деле, эти категории 19-го века возникли не как продукты научных исследований, а как попытки укрепить личные убеждения, укрепить вновь появляющиеся профессиональные авторитеты и укрепить сильно пошатнувшиеся социальные порядки, которые нуждались в интенсивном совершенствовании врагами или обостряющимися кризисами, чтобы сохранить свое собственное место и ценность, поскольку они обеспечивали свои интересы.
В рамках любого данного общества люди обычно не признают и не принимают во внимание более широкие культурные и исторические различия. С другой стороны, многие в течение своей жизни начинают остро осознавать изменения, происходящие вокруг них. Учитывая историческую безграмотность нашего общества, некоторые люди реагируют на реальные и воображаемые изменения неадекватным и разрушительным образом. Такая реакция обычно означает, что ситуация становится хуже. Возможно, это не “неадаптивная” часть, и на самом деле она может быть довольно точной. Но такое отношение часто приводит к большим инвестициям в символы и абстракции, энергичным и отчаянным попыткам компенсировать или возместить воспринимаемую потерю, основывать социальные отношения на образах, а не на взаимодействии, и закреплять разобщенные жизни кажущимися цельными образами, сопровождаемыми стандартными, согласованными и жестко соблюдаемыми текстами, требующих сурового наказания за нарушение наряду с устранением критики и опровержений. Символы для этих людей наиболее эффективны, когда они немые. Изображения, артефакты или категории людей, которые не имеют права голоса — либо потому, что им было отказано в голосовании, либо потому, что элементы ненастоящие, — могут быть культурно и психологически функциональными. Эти изображения, анимированные и дублированные их создателями, представлены как реальные, активные и говорящие сущности до тех пор, пока не будут сказаны и сделаны соответствующие действия. Двумя наиболее важными и давними способами использования детей в этом отношении были их представления в виде ангелов или дьяволов.
III
Идею врожденной невинности можно найти в классической Греции, хотя онабыла довольно редкой. В Древнем Риме были свободнорожденные дети с пурпурной каймой, каторая указывала на их незагрязненность миром. Наряду с культом Пресвятой Девы, францисканцы помогали поддерживать широко распространенную веру в невинность детей на протяжении всего средневековья вплоть до 16 века. Поклонение божественной матери и младенцу помогло укрепить ценность материнства и, за некоторыми исключениями, помогло направить эмоциональную и физическую привязанность к священным и духовным сферам, далекими от светского и плотского. Период с 13 по 15 века ознаменовался появлением одной из первых крупных сентиментальных культур западной цивилизации.[10] Существовало то, что Маркус называет “левой” версией невиновности, исходившей от некоторых сторонников контрреформации 16-го и 17-го веков, которые призывали, по словам Маркуса, “неограниченное удовлетворение детского порыва”, и который рассматривал детство “как мандат на анархистскую вольность”. Эта позиция была усилена Рабле, который видел в детях инстинктивное сопротивление господству и контролю даже несмотря на то, что “цивилизующие” силы тогда вовсю работали. Другой стороной этих политических идей невиновности было большее укрепление установленной власти. Здесь невиновный был спасенным верующим, простым, доверчивым, послушным иждивенцем. Интеллектуальные и рациональные усилия были очернены. Это “аффективное благочестие” стояло за большинством детских образов в искусстве и литературе контрреформации (Marcus 1978; 58ff).
На протяжении XVI века быть “хорошим” ребенком означало для большинства протестантов быть послушным ребенком, и это требовало авторитарных систем идеологической обработки и строгая регламентация гендерных ролей и их содержания. С ростом влияния моральных реформ в 17 веке “доброта” стала означать “невинность“ и ”непорочность" (Schorsch 1979:152), то есть материальную и сексуальную незаинтересованность. Стэннард (1977:48) цитирует текст 1628 года, показывающий, что идея детской невинности с явными антисексуальными отсылками существовала в американской культуре довольно давно: “Ребенок - это мужчина с маленькой буквы, но лучшая копия Адама до того, как он вкусил Евы... Он совершенно счастлив, потому что не знает зла...”
Идея невинности не развилась постепенно из идеи зла в Америке 17 века, а сосуществовала с ней, существуя как точка зрения меньшинства до следующего столетия, когда она получила более широкое распространение. Такие концепции, несомненно, привели бы к совершенно иным методам воспитания детей и сформировали бы основу для другого отношения, административное отношение к молодежи. Только в 1700-х годах ребенок как изначально невинный — и обладающий божественной сущностью - вновь появляется в каком-либо существенном присутствии. В этом развитии было два основных течения. Самые ранние из них можно увидеть в произведениях Руссо романтического периода (1730-1830). Согласно этой точке зрения, невинность была врожденной и потенциально вечной в своих возможностях. Именно с этого времени современный “культ ребенка” начал свое наиболее серьезное развитие, опираясь на идеи, возникшие во время французской и американской революций: забота о человечестве как абстрактной сущности и забота об отдельных людях в частности, и то, и другое подчеркивает эгалитарные отношения. Взгляды Руссо были прогрессивными и прямо противоречили кальвинистской доктрине унаследованного зла и греха. Как и в некоторых стихах Уильяма Блейка, он подчеркивал органическую естественность детей и настаивал на том, что качества детства можно сохранить и развить по мере взросления.
Серьезным разрывом с прошлыми теориями было то, что детство рассматривалось как достойное само по себе, естественное органическое состояние, а не просто как “довзрослое” время. Именно здесь также начинают появляться идеи о внутреннем “реальном я’, помогающие закрепить идею ценной человечности детей. Делая акцент на стабильном состоянии, Вордсворт и другие подчеркивали аспекты развития, рассматривая ребенка как естественную невинность но с возможностями прогрессивных перемен. Его знаменитая фраза “Ребенок - отец мужчины” (1802) стала не только классическим литературным выражением, но и фундаментальной концепцией юности, идея, позже подкрепленная психологией, которая взяла верх и провозгласила этот взгляд одним из своих глубоких. Эта идея утверждала, что люди и цивилизации могут стать “лучше”, предполагая, что определенные качества и условия остаются постоянными, а другие устраняются. В этом суть “прогресса”, идеи, получившей дальнейшее развитие в 19 веке для оправдания различных империалистических, политических и экономических авантюр - подход, который лег в основу того, что мы сейчас знаем как социальную науку и политический либерализм.
Романтизм также популяризировал идею физической красоты детей. Невинный был чрезвычайно “хорошеньким”, и было много восторженных и чувственных описаний таких подростков. Это было тем более действенно, что считалось, что ребенок был прямым выражением сверхъестественных сил, этот акцент на природе и красоте с их божественной санкцией был частью Романтического поиска существенных, примитивных качеств и категориальных типов. Невинность в то время была напрямую связана с поиском Благородного Дикаря, поиском эмоциональных и физических качеств, которые могли бы стать надежной защитой от моральных и интеллектуальных вызовов рационалистически ориентированных элементов 17-го века и от уродующих посягательств урбанизации и индустриализации. Боас (1966:8, 21) рассматривает развитие этой разновидности невинности как часть “антиинтеллектуализма, который неуклонно рос с XVI века". Идея возникла в то время, когда эмпирическая и экспериментальная наука добилась значительных успехов в борьбе с теократическим контролем традиционных знаний. Это повлекло за собой противопоставление экспертных теоретических знаний системам логики и познания, включая допущение мужчинам телесных и репродуктивных знаний, которыми ранее управляли "женщины со здравым смыслом", в качестве ответной реакции были сделаны инвестиции в концепцию невинности", которые выражали интуитивный интеллект. Черты этого сохранялись до конца 19-го века в таких работах, как работы Горацио Элджера. "Мальчики Элджера" были оптимистичны и энергичны. Благодаря искренней дружбе взрослых, дети (мальчики) расцветали и росли, отдавая обществу больше, чем они получали. Они также были хороши собой. Несмотря на (или, для некоторых, из-за) слои бедности, городской грязи и грубоватого маскулинизма, существовали привлекательные лица, энергия и сила, а также хорошо сформированные конечности. Мун рассматривает это как выражение гомоэротизма (1987:94), но восхищение Элджера также является частью широко распространенного в 19 веке восприятия красоты молодежи в целом и изменения эротического потенциала молодежи в частности.
Темной стороной этой органической натуры было убеждение, что дети, как и женщины, подвергшиеся инфантилизации, подвержены “страстям". Из-за этой уязвимости перед “сильными впечатлениями” молодыми людьми 19-го века считалось, что ими легко манипулировать, особенно посторонними и лессерами. Это продолжает оставаться одним из предположений теории о том, что дети не могут соглашаться ни на что, связанное с сильными страстями, особенно на удовольствие. Многое из этого стало основой психологии, которая рассматривала ребенка как особенно подверженного травмам и предполагала его вечный ущерб и представление о ребенке как о человеке, которому присуще умение отличать добро от зла. Было несколько важных аспектов придания такого символического значения детям. Одним из них было растущее социальное и политическое использование детей в качестве морального показателя. Слова и действия детей воспринимались как окончательный императив качества. Более того, эти ценности, поскольку они были “естественными” и исходили от Бога, считались универсальными, и все люди во все времена подчинялись их ограничениям. В контексте социальных и экономических сдвигов 19-го века это стало мощным якорем идеологической стабильности и мощным оружием против плюрализма и конкуренции. Таким образом, ребенок как обвинитель получил широкое распространение, возродив роль, которую он часто играли в средневековой и ранней современной охоте на ведьм. Брейн (1970:168) заметил, что “во времена социальной напряженности дети кажутся [взрослым] отличным средством для борьбы со злом — они настолько невинны, что способны распознавать зло и говорить правду о нем”. Во-вторых, эта моральная позиция, особенно когда она воспринимается как пророчество, добавленная на ребенка ложится бремянем быть надеждой будущего, как в индивидуальном плане, так и в качестве барометра цивилизации в целом. В-третьих, и это еще более важно, поскольку будущее становилось все менее и менее многообещающим, ребенок стал объектом “ностальгического сожаления”, острой проекции чувства утраты, которое стало более важным в более поздние периоды. Наконец, их близость к божествам делала детей мистическими, священными существами. Ребенок стал синонимом невинности и чистоты, одно невозможно без другого. Любое отклонение, исключение или нарушение этого считалось “противоестественным”, “богохульным” или “непристойным” суеверия, закодированные в уголовном праве.
Обвиняющий нравственный ребенок стал фигурой искупления, спасителем, наделенным сверхъестественными способностями. В поэзии и художественной литературе 19 века дети благодаря невинности, доверию и простому присутствию требуют и получают правильные решения от мира взрослых. В 19 веке дети делили эту роль с женщинами и рабами, и повествовательно это было наиболее эффективно, если они умирали, поскольку страдания и смерть невинной жертвы несли в себе больше силы. В разгар релятивизма истерия жестокого обращения 1980-х годов, Кюблер-Росс опубликовала книгу о детях и смерти, в которой она связала вдохновение, которое она получала от умирающих детей (“они были мудрейшими из учителей”), со своей верой в то, что детей похищают, жестоко эксплуатируют, а затем убивают со все более бешеными темпами, заявив, что 50 000 детей в год исчезают “бесследно”.[11] "Ребенок-пророк-спаситель" возник как квази- Нью-эйдж/неохристианское божество в видении Фокса (1988:188-198), подчеркивающее молодость как надежду цивилизации.
В начале 1800-х годов ребенок все чаще использовался для выражения потребности социального порядка в стабильности. По мере того, как недовольство внешним миром становилось острее, ребенок предлагался как оплот против настоящего и как надежда на будущее. Таким образом, вторая основная нить идеи невинности. В то время как первая оптимистично рассматривала невинность как неотъемлемую и возможную за пределами детских лет, вторая тенденция, развивающаяся позже, была более пессимистичной. Невинность все еще присутствовала, но она была хрупкой и недолгой. Невинность была этапом. Ребенок как символ потери расширился и развился до полной ностальгии. Это уже было в “Оде; Намеки на бессмертие Вордсворта из воспоминаний раннего детства” (1807) и в некоторых произведениях Блейка, в которых сочеталось наслаждение ребенком здесь и сейчас с мотивом “потерянной юности”, который должен был стать более важным позже в этом столетии (Паттисон 1978:62). Оптимизм в 18 веке сменился пессимизмом в следующем, так что для многих к середине 19 века ребенок “стал тесно ассоциироваться с пафосом; и как только символ стал патетичным, он стал удобным средством выражения сожаления и отчуждения” (Ковени 1957:148).
Акцент на началах был в то же время репрезентацией того, что закончилось и ушло. Ребенок стал абстрактным живым памятником, артефактом жизни, какой его представляли. Ребенок, выставляемый напоказ как надежда на будущее, на самом деле является возможностью прошлого, это помогло эмоционально стимулировать ряд реформаторских движений, начиная с конца 18 века. Одновременное воплощение ребенка как живой надежды и разочарования в прошлом требует защитного восстановления. Суровый, социальный и экономические изменения, неурядицы и опровержения (особенно доказательств биологической эволюции) требовали какого-то обоснования для тех, кто чувствовал себя брошенным на произвол судьбы, точно так же, как Джудианн Денсен-Гербер считала, что это было необходимо в 1970-х и 1980-х годах. Этот монументализм ребенка, каким он казался в 18-м и 19-м веках, совпал с растущим романтическим интересом к руинам, которые говорили о разрушительном воздействии времени, забытом величии и павших цивилизациях, представленных образами гниющих и пустых дворцов, заросших сорняками и паразитами. Сам ребенок превратился в руины, как это было в 1980-х годах, с акцентом на телесные повреждения, пожизненные травмы и упадок. Эта форма ностальгии приняла несколько форм, таких как созерцание руин с жалостью к себе или страшное и истеричное празднование катастрофы, которое стало развитым жанром кино в 1970-х годах, когда начала нарастать одержимость жестоким обращением с детьми.[12]
Серьезное сентиментальное отношение к детям начало проявляться примерно в 1850 году, а к концу 1800-х празднование и жертвоприношение были в полном расцвете. Тогда как раннее Викторианцы придерживались концепций зрелости и мудрости детства (или, по крайней мере, его возможностей), которые позже усилили, развили и институционализировали “инфантильность” детей.[13] В 1880-х годах произошел значительный рост детской фантастической литературы. Конец 19-го века был периодом активного мифотворчества в американской культуре, и появление и развитие детских фантастических сказок было связано с историческими потребностями в идеологическом подкреплении. Сказки полезны во времена разделения между детьми и взрослыми и помогают выделить у взрослых авторитет и властность, а также определяют области бессилия у тех, к кому обращены рассказы. Большинство сказок были отмечены явным насилием и жестокостью, целью которых было “уберечь ребенка от слишком близкой зрелости” (ван ден Берг 1964:78; Уиши 1968:5). Это было сделано просто путем внушения страха. Соответственно, дети считались все менее и менее готовыми к внешней жизни, что является результатом растущего акцента на хрупкости внутренней жизни и разрушительности внешнего современного мира. Для их же блага женщин и детей держали в “коконе любящего понимания” (Avery 1975: 146f).
С этой точки зрения, “естественным” настроем детства было счастье. Потеря этого счастья означала потерю невинности и чистоты, и с грузом социальной репрезентации, который нес ребенок, поиск признаков несчастных детей стал интенсивным, а затем неистовым. Поиском руководили, во-первых, взрослые, необходимо подтвердить их собственные пугающие представления о социальном и экономическом мире, и, во-вторых, как только несчастный ребенок будет найден, его можно будет с помощью взрослых вернуть к жизни. Его “естественное” состояние, которое по совпадению восстановило бы психику, тело и социальный порядок взрослого человека. Сексуальность рассматривалась как минимум как состояние утраченной невинности, а в худшем случае как признак опасной социопатии. Секс и дети были разделены с отчаянной суровостью. Идея счастливого сексуального ребенка стала невообразимой, невыразимой и непростительной. По мере того, как ее изображения начали появляться на рисунках и фотографиях 19-го века, сексуальный ребенок стал одним из самых пугающих и подрывных образов, которые культура знала более века. Сходство детей и женщин с куклами росло на протяжении всего 19-го века, но, как знал Эйвери, “это неизбежно, если у вас сияющая невинность...вы должны создать какую-нибудь тень, чтобы подчеркнуть сияние.”[14] Хотя эта тень была в значительной степени призраком внешнего мира (благодаря новой науке, психологии) отчасти это было растущее пугающее осознание неизвестного и неконтролируемого внутреннего мира. Эти тревоги помогли создать важный и чрезвычайно полезный подобраз: невинный ребенок под угрозой.
В начале 18-го века было признано, что детей можно исправить, если ребенок усвоит “соответствующие” моральные ценности. Дети могли извлечь пользу из опыта, и им разрешалось более свободно распоряжаться жизнью. Считалось, что их “врожденная’ склонность к добру и нравственности победит в любом случае конфликта. Но примерно с 1830 года усиливался страх, что общество поощряет непреодолимые соблазны, которые могут отвлечь детей от надлежащего развития. Особенно после Гражданской войны идея о подверженных опасности детей стала первым из двух типов в этой более поздней разновидности пессимистической невинности. Примерно в это же время, в первой половине 19-го века, всерьез возникли обширные реформаторские движения, и забота о спасении детей легла в основу для большинства из них. Пасторальный образ “деревенского парня” приобрел популярность как идеал естественной органической невинности, которому угрожал его переезд в искусственный город или распространение города на сельскую местность. В сочетании с относительно новой концепцией “развития” в литературе, ориентированной на родителей, и даже в небольших количество работ, которые были адресованы непосредственно самим молодым людям.[15]
К середине 19 века сентиментальный роман достиг своего расцвета. Акцент в христианской морали делался на доме, семье и супружеских отношениях в традициях англо-сельской местности среднего класса, на чистоте и пассивности женщин, а также на домашней и сыновней любви, а не на страстной чувственности и сексуальном удовольствии. Эти романы также начали более наглядно описывать драму угроз отдельным людям и обществу для использования в качестве захватывающих сюжетных элементов, хотя рекламировались как предназначенные исключительно для просвещения читателей. Сентиментальный роман также был широко популярен в один из периодов великого религиозного возрождения страны (с 1820 по 1860 год), и многие писательницы (почти все женщины) использовали этот жанр, чтобы попытаться противостоять влиянию на читателей (почти всех женщин) таких пагубных идей, как либерализм, анархизм, атеизм и христианство, сектантство. В стремлении обеспечить место и роль женщин был использован испытанный метод ограничения, тактика похвалы и лести. Дэвис заметил, что в начале 19-го века американцы “приняли романтическую веру, что нравственность может быть обеспечена только освящением женщин” (1963). Многое из этого на самом деле можно увидеть в христианской политике, восходящей к 12-му и 13-му векам (LeGates 1976), то, что появилось начиная с 18-го века, было значительным вкладом сентиментальных и священных ценностей в личность женщины и возросшей сенсационной, мелодраматической инсценировкой угрозы этим ценностям. Многие наблюдатели отмечают! что в дополнение к тому, что эта политика была основана на амбициях мужского патриархата, это были мужские страхи перед сексуальностью женщин и перед своей собственной сексуальностью, которые стимулировали такие кампании по регулированию (Cominos 1972; Christ 1977). Поскольку они рассматривались как идентичные женщинам, объектами этих интересов были также дети.
Некоторые образы невинного ребенка в неспокойном земном контексте присутствовали в 17 веке, а во второй половине 19 века с образом детей стала ассоциироваться более явная болезненность, уныние, из-за которого у ребенка оставалось все меньше и меньше шансов в неизбежном конфликте, который возникает из-за живущий в этом мире. В невинности появилась какая-то фатальность, меланхолия и ощущение этого как чего-то, что невозможно сохранить, несмотря на все усилия. Вордсворт и Блейк в некоторых частях своих работ стремились мобилизовать эмоции не столько на образах невинности, сколько на ее обреченной природе. Это было манипулирование детьми (и взрослыми), которое усиливалось с течением 19-го века и вновь появлялось в разное время и в некоторых частях текущего столетия, самыми последними из которых были дискурсы о “пропавших детях” и сексуальном насилии, начавшиеся в середине 1970-х.
Второе концептуальное направление этой разновидности невинности получило дальнейшее развития путем смещения акцента с опасностей окружающего мира на то, чтобы уже сейчас выделить ребенка в качестве жертвы. Это был сдвиг, который предполагал, что угрозы реально распространлись повсеместно, что дети беспомощны и уязвимы, и что последствия были травмирующими и необратимыми. К концу 19-го века сожаление о детстве приобрело “навязчивое эмоциональное качество” (Ковени 1957: 241).
Если, как предположил Паттисон (1978: 110), детей использовали для демонстрации “существенного несовершенства” мира, то чем больше показано страданий ребенка, тем больше будет иметь пропагандистское воздействие. Журналисты давно поняли, что изображения страдающих детей передают трагедию и провоцируют негодование. Исторически такое использование привело к появлению двух диалектически противоположных, но обязательно связанных наборов образов, начиная с начала 19 века: сверхсентиментального и безвкусно милого ребенка и мира, полного опасностей и смерти. Результатом стал почти идеальный образ главной жертвы против главного злодея. Для многих взрослых приписывание беспомощности женщинам и детям прямо соответствовало передача ключевых аспектов культурной власти от них к тем, кто считал себя их естественными защитниками. Легко избавившись от ассоциации с забвением, невинность стала синонимом некомпетентности.
IV
Вера в то, что дети по своей сути являются злом, была распространенной, часто официальной идеей в течение довольно долгого времени. Она варьировалась в деталях, уровнях интенсивности и сфере применения, но идея нашла много сторонников и оправдана многими политиками, регулировала как молодежь, так и взрослых. Одним из самых ранних комментаторов был Филон Александрийский (30 г. до н.э. - 45 г. н.э.), который назвал некоторых детей “демоническими”, потому что они “отдаляются от отцовской добродетели” и “становятся ревностными подражателями материальной развращенности”. Некоторые из наиболее интересных и суровых примеров того, как дети видят зло, появляются в ходе инквизиций по борьбе с колдовством, которые бушевали с середины 15-го века до середины 18-го. Многие дети выступали свидетелями против взрослых. Их показания, часто натасканные, принимались, потому что считалось, что дети по своей сути невинны, потому что считалось, что они не могут лгать о таких вещах, потому что они рассказывали такие последовательные истории, и еще потому, что считалось, что дети могут интуитивно распознавать зло.
Но также считалось, что были дети, которые сознательно служили воле ведьм или сами были ведьмами. Текст 1629 года, "Новый трактат о Совращенных малолетних ведьмах” выражал значительный страх, что малолетние ведьмы увеличиваются в числе и силе. Дети становились ведьмами, потому что их совратили их родители, из-за присущей им склонности к греховности (“предрасположенности”) или потому, что они стали одержимыми и околдованными. В ряде случаев взрослые, обвиняемые в колдовстве, признались, что они стали ведьмами, когда сами были детьми, что предвосхитило формулу “подвергшийся насилию становится насильником”, которую видели четыреста лет спустя. Многие дети в возрасте от 3 до 17 лет были арестованы, заключены в тюрьму, подвергались интенсивным допросам,[16] и подвергались пыткам; требовались признания и показания других лиц, ряд мальчиков и девочек признались в том, что занимались сексом с дьяволом (Мидельфорт 1972: 144, 157; Мюррей 1962:184) или с инкубами или суккубами.[17] К концу столетие некоторые дети начали признаваться, что они были вовлечены в сексуальные оргии, которые были частью шабаша ведьм (Сет 1969: 17f). В качестве наказания детей избивали, заключали в тюрьму или казнили.[18] В конце 16 века велись серьезные дебаты о том, следует ли казнить детей-ведьм или нет. Многие считали, что с ведьмами младше семи лет следует обращаться милосердно. Другие утверждали, что пытки и казни детей-ведьм были оправданы, потому что их нельзя было вылечить (Мастерс 1962: 68; 69, примечание 6).
Следуя традиции Павла, Джон Кальвин рассматривал грех как неотъемлемое наследственное состояние. Кальвину (1960: 251) следует отдать должное за то, что он связал сексуальность с идеями разложения, болезни, инфекции, порочности, извращении, нечистоты и греха. Благодаря Кальвину представление о детях как о развращенных было фундаментальной частью пуританской культуры 17-го века и в той или иной степени встречалось в других христианских системах. В 1569 году Каспар Хуберинус сказал, что дети были наполнены “грязью и порочностью” (Штраус 1978:97). Пуританский текст 1621 года утверждал, что маленький ребенок был “всецело склонен ко злу” (Иллик 1974: 311). Для тех, кто отправлялся в “Новый свет”, на протяжении всей поездки постоянно звучали страшные предупреждения о вырождении и развращенности; повторяющиеся проповеди Джона Уинтропа и Джон Коттон в 1630 году проникся верой в неизбежность капитуляции человека перед “плотскими приманками” (фраза Саквана Берковича, 1978: 3f), которые вызывают у детей предрасположенность к падению. В своей книге проповедей 1721 года Бенджамин Уодсворт сказал, что дети были “грязными, виновными, отвратительными” и были “рабами своей собственной похоти” (Флеминг 1933: 96f). В одной из своих знаменитых проповедей.
Коттон Мазер сказал своей пастве, что дети “сбиваются с пути, как только рождаются. Они не успевают сделать шаг, как сбиваются с пути, они не успевают шепелявить, как начинают лгать” (Стэннард 1977:50). Но люди не смогли бы долго терпеть самих себя, если бы не было лазейки, и теократическая культура удобно предложила три решения своей самогенерируемой проблемы, кратко изложенные в письме, написанном Джорджем Уайтфилдом в 1700-х годах:
Великая цель каждого христианского учреждения по воспитанию нежной молодежи, умы должны быть направлены на то, чтобы убедить их в их естественной порочности, в средствах излечения от нее и в необходимости подготовиться к наслаждению Высшим Существом в будущем состоянии. (Сангстер 1963:26)
Окруженный и контролируемый взрослыми, которые считали, что человеческое общество состоит из “жалких, бессердечных, бессмысленных, трусливых существ, спящих на краю ада”. (Флеминг 1933:55, цитируя современный текст), но считавшие себя любящими и заботливыми, дети уютно устроились в христианской культуре разврата, дисциплины и смерти. Чрезвычайно напуганные, большинство родителей начали жестко навязывать детям религиозные убеждения примерно в возрасте семи или восьми лет. За подростками постоянно наблюдали и допрашивали о состоянии их “духовного здоровья”. Четырнадцатилетний возраст считался концом времени, когда грех мог быть прощен. В этом возрасте публичная демонстрация религиозного обращения считалась необходимой для индивидуального спасения и надлежащего членства в сообществе. Это делалось на регулярных службах и во время специальных пробуждений, которые культивировали повышенное выражение безусловной и покорной веры Большинство обращений произошло примерно в возрасте половой зрелости, но многие на самом деле были подростками. На этом этапе также состоялось несколько браков девушек в возрасте от 12 до 14 лет — традиция, продолжавшаяся на протяжении всего 18-го века и в 19-м. Цитируя “Письма английского путешественника" (1829), Флеминг (1933) говорит: “посетитель из Англии указывает на продолжение эмоционального обращения к детям и показывает, что, несмотря ни на какие обстоятельства, дети не были пощажены в усилиях, которые были предприняты для обеспечения надлежащего осуждения”.
Требование о спасении детей было настоятельным. Во время пробуждений дети реагировали плачем, падением в обморок, воплями, визжанием и спазмами, называемыми “дрожью и возбуждением” (Флеминг 1933: 129ff). Из-за этого дети постоянно заражались “видениями, ночными кошмарами, глубокими депрессиями и ненормальныеми страхами” (Сангстер 1963: 150). Молодые женщины были наиболее уязвимы перед этими кампаниями; современные наблюдатели отмечали, что на каждого обращенного мальчика приходилось три девочки, которые были обращены таким образом во время этих пробуждений. Джеймс Джейнвей в книге “Знак для детей" (1671) советовал детям "войти в комнату... и упасть на колени, и плакать, и скорбеть, и рассказывать: Христа ты боишься, что он не любит тебя...” (Гриллс 1978:26). Сангстер, сочувствовавший религиозной идеологической обработке детей, сказал, что многие в 18 веке дети “проводили свои младенческие годы, оплакивая это греховное состояние, подталкиваемые к нему родственниками и друзьями, это привело многих детей к “болезненным глубинам... отчаяния и даже самоубийству”, но, несмотря на это, оптимистично сказал Сангстер, многие дети выиграли, придя к “отношениям с Богом, которых нет ни у кого другого".[19] Этот интенсивный обвинительный поиск своего греховного “я” в сочетании с общественной слежкой и обвинениями семьи культивировал в молодежи "страх, синонимичный террору". Неважно, говорит Сангстер; это было “неизбежно”.
Родительская дисциплина в этой религиозной группе была “жесткой”, подходу уже сто лет. Доброжелательность и любовь ценились, и говорилось, что способ показать это на благо всех - взять ребенка и сломить его волю. Мода на “жесткую любовь” середины двадцатого века насчитывала более трехсот лет. Упрямое “своеволие” проявилось в раннем возрасте в жизни ребенка и угрожало испортить его. Родители сохраняли это “божественное право" власти над своими детьми вплоть до 18 века. Средний и высший класс использовали телесные наказание, которые уменьшились в 19 веке, потому что ответственность за присмотр за ребенком перешла к женщинам, а также из-за более сентиментального отношения к детям, возникшего в то время. Многие пуританские идеи все еще были в силе на протяжении 19-го века, но идея врожденного, всепроникающего и неизлечимого греха начала подвергаться сомнению, и, похоже, незадолго до этого она более или менее исчезла как влиятельная социальная сила Гражданской войны.[20] Это изменилось не из-за какой-либо особой неудовлетворенности моралью такого взгляда, а потому, что изменились другие связанные с ним идеи, такие как представления о рае и аде, изменение характеристики божества с социопатического на доброжелательное и замена грешного ребенка падшей женщиной как проституткой и роковой женщиной. Однако в светских контекстах язык оставался в некоторой степени прежним, поскольку многим непослушным или мастурбирующим детям в этот период часто ставили диагноз “дурные наклонности” (Wishy 1968: 21).
На протяжении 17, 18 и 19 веков идеи смерти широко использовались для идеологической обработки детей. Во времена, когда идея врожденного преобладания греха, смерть использовалась для укрепления “духовного здоровья ребенка", смерть представлялась ребенку как предупреждение, наказание за грех и придавала актуальность призыву к обращению и покаянию. “Смерть значила для евангелиста больше, чем жизнь”, - говорит Сангстер; “последней обязанностью [детей] было желать смерти” (1963:153). Как зародыш, дети были представлены как сама смерть. Коттон Мазер в своей книге "Элизабет в ее святом Уединении“, эссе о том, как подготовить благочестивую женщину к предстоящему бракосочетанию (1710), предложил немного утешения у постели больного перед лицом высокого уровня смертности при рождении: "Ваша смерть если в вас что-то вошло, вы, возможно, зачали то, от чего зависит, проживете ли вы в этом мире еще самое большее девять месяцев” (Шульц, 1985). Детям неоднократно говорили, что они приближаются к смерти и должны вести себя соответственно. В 1673 году Сэмюэл Уэйкман жаловался, что дети “вынашивают и ведут себя так, как будто воображают, что их горячая кровь, крепкие тела, активность, красота будут длиться вечно.”[21]
Смерть и вечные страдания также могли быть вызваны грехами других людей. Исходя из этого, община в целом была обязана следить за нравственностью своих членов. Коттен Мазер в 1695 году говорила о детских “проявлениях безбожия”, которые могут навлечь гнев божества на родителей, обрекая их на ад. Учитывая смертоносную природу их божества, наказание также затронуло бы все сообщество. Именно здесь мы имеем один из ранних американских примеров личной девиантности, реальной или предполагаемой, рассматриваемой правящими старейшинами как сигнал надвигающейся гибели цивилизации. Детство было чрезвычайно опасным временем как в индивидуальном, так и в социальном плане. Таким образом, родители беспокоились за обоих. Причины — непослушание их детей и случайная связь с концом их общества — и строгая дисциплина использовались для того, чтобы удержать пуританских детей от “вожделений, страстей, удовольствий, тщеславия и греха” (Санптер 1963:72). И, следует отметить, взрослые в равной степени стремились избежать обвинений в том, что они плохие родители, которые неправильно воспитывали своих детей и, таким образом, обрекли их на ад. Сообщество взрослых использовало детей для демонстрации и подтверждения своей предполагаемой компетентности, авторитета и морали.
В 19 веке, как часть идеи невинности, смерть предлагалась в качестве наказания, награда вместо наказания. Эйвери (1965:223) называет это “убийством невинных“ и говорит, что писатели второй половины 19-го века "были настолько очарованы... умирающим ребенком, что не могли оставить это без внимания. Они перенесли это в светскую историю и с любовью исследовали все ее возможности” (стр. 222). Использование Эйвери слов “влюбленный” и “с любовью” поучительно, поскольку указывает на эмоциональную и физическую напряженность, которая была задействована в этом явном образе, преданность, которую сегодня можно было бы охарактеризовать как “порнографическое” изображение страдающего и умирающего ребенка продолжалось на протяжении всего оставшегося столетия, и его использование почти не маскировалось никакими предлогами, кроме вуайеризма. Ковени (1957: 149) лучше всего выражает чувство, которое возникает при чтении об этих обреченных детях:
Это похоже на то, как если бы многие возлагали на образ детей тяжесть своего беспокойства и неудовлетворенности, своего стремления уйти в себя и, в конечном счете, своего собственного желания смерти. ... Это сам по себе замечательный феномен, когда общество забирает ребенка (при всей его потенциальной значимости как символ плодородия и роста) и создает литературный образ не только хрупкости, но и угасшей жизни, жизни, которую лучше погасить, жизни... отвергнутой, отрицаемой в самом ее корне.
В начале 1700-х годов кальвинистская доктрина врожденной порочности отступила. Именно в это время “озорной” ребенок начинает приобретать некоторую популярность. На женщин оказывалось значительное давление, чтобы они усмиряли и прекращали игривость, но мужчин поощряли. В довоенной Америке в литературе все чаще изображался тип “плохого мальчика”, но это было мягко и терпимо, если не откровенно поощряюще. В то время как девочки оставались домашними и добродетельными, мальчики становились “плохими” в контексте индивидуализма и независимости (Фидлер 1971a, 1971b; Уолцер 1974). Существовало прямое приравнивание такого рода мужчин к сельской и “естественной” среде обитания, особенно по мере того, как Америка вступала в период напряженной урбанизации и индустриализации во второй половине 19-го века. Действительно, были истории о хороших детях, такие как более мягкий, но не менее мужественный “нежный мальчик” конца 19 века (Мун, 1987), хотя некоторые “хорошие” мальчики были представлены женоподобными или щеголеватыми. Том Сойер стал основой для широко поддерживаемой роли молодого мужчины.
Антисептический, абсолютно невинный ребенок 19-го века, “монстр добродетели” Филдера, также является фигурой, которая приглашает и фактически предопределяет противоположный тип монстра, абсолютно злого ребенка. Позже в этом столетии непослушный ребенок, особенно романтизированный беспризорник из низших слоев общества, стал менее симпатичным, когда их, казалось, стало больше и они стали более порочными. Явный и знакомый тип злого ребенка начал появляться в Америке с 1940-х годов, хотя существуют и предшественники (Кун 1982). “Поворот винта” Генри Джеймса (1898) обычно рассматривается в качестве примера, а также "развращенные" дети в рассказах Золя, Кафки, Стивена Крейна (“Дитя-ангел”), Фолкнер (“Гамлет”) или Пол Боулз (“Страницы из холодной Точки”). В 1940-х годах появился термин “подросток” - фраза, пытающаяся точно обозначить то, что стало рассматриваться как совершенно новое и вызывающее беспокойство явление, - малолетних преступников 1950-х годов. Термин “подросток” стал ассоциироваться с непослушанием, преждевременной и неконтролируемой сексуальностью, а также насилием, проблематичными качествами, которые долгое время ассоциировались с молодостью (Perrett 1973: 348ff).
1950-е годы рассматривались как поворотный момент в представлении злых детей, и "Дурное семя" Марча считается отправной точкой.[22] Книга была в некотором роде развитием жанра психокиллера, но она послужила основой для появления "демонического ребенка" в течение следующих четырех десятилетий. Многие негативные темы были представлены этими детьми; несостоятельность или бесполезность разума или интеллектуальной деятельности, агрессивный индивидуализм, крах нормальности и цивилизованности, неспособность сопереживать и приверженности, а также повсеместность зла, особенно в обыденном и повседневно-бытовом (Дарби 1987: 274ff).
Ситуация оставалась довольно спокойной до 1970-х годов, когда появился значительный и энергичный рост представлений о злых детях, ставший основой текстов ужасов конца 20-го века.[23] К 1977 году, безусловно, было правдой, что, по словам Ли Симмонс из Franklin Spier, Inc. (агентства, которое продвигало книгу Джона Сола 1977 года), “национальное настроение подходит для историй о ”плохом семени"". Реклама агентства показывала "хорошенькую маленькую девочку... неистово уничтожающую свою куклу, в то время как голос за кадром произносил нараспев: "Невинность умирает так легко... зло снова живет...и снова” (Уолтерс, 1977). Детей по-прежнему рекомендовали как злодеев, потому что “у них почти нет моральных норм... или запретов на устранение источника сильной боли. Для них наказание является единственным реальным сдерживающим фактором” (Джонс 1987: 249). Социальные наблюдатели были встревожены. Кэнби (1977) и психиатр Джеймс Гордон (1977) рассматривали демонического ребенка как отражение страха взрослых перед детьми, боязни потерять контроль над детьми и пророчество о мрачном будущем, другие видели аллегории сексуального появления (Чейз-Маршалл, 1977) или как свидетельство социального и морального краха. Учитывая стерильную природу большинства американских представлений, на которые жаловались Кэнби и другие, "Злое дитя" дало шанс изобразить все исключенные и до этого момента невыразимые характеристики себя и общества, которые невозможно было сформулировать в другом месте. Злой ребенок, долгое время отсутствовавший в американской жизни, вернулся через художественную литературу, чтобы снова угрожать обществу и будоражить его. Эбон (1978), способный долго говорить о невыразимом, был особенно яростным. Для него ребенок был жутким, отталкивающим, “котлом” отношений, основанных на страхе и ненависти, наполненный вопиющей дикостью, “разрушительный, унизительный, социально неподобающий...”, психопатический, невменяемый, развратный, жестокий, оскорбительный, преступный и отклоняющийся от нормы.
Злой ребенок - это обычно одержимый ребенок, находящийся во власти внешней силы и вынужденный совершать действия, которые шокируют, отталкивают и вызывают отвращение, действия, которые он не стал бы совершать “естественным образом”. Злая сила может освободить ребенка после экзорцизма или психотерапии, или ребенок может быть поврежден навсегда, обречен повторять и распространять зло — мотив “подвергшийся насилию становится насильником”. В истории ужасов Картона (1988), секс между учителем воскресной школы и девятилетним мальчиком выявляет (или внедряет) зло в подростка, который шантажирует учителя, заставляя его убить мать и бабушку мальчика.
Один из вариантов этого можно найти в жанровых оккультных романах, где дети проявляют демонические силы, дарованные им злым божеством или педофилом. Разбор полетов (1987) демонстрирует драматическую эффективность этого, изображая ребенка, творящего зло, но, казалось бы, вовлеченного только в невинную игру, например, при выполнении заклинаний вуду с куклами и плюшевыми мишками. Это может быть продолжено во взрослой жизни с помощью того же гротескного налета невинности. Одним из приятных примеров является роман о зле, спровоцированном инцестом. Big Curl (Мецгер и Скотт, 1989), образы и письменность которого связаны с визуальными стилями “альтернативных” мультфильмов и фильмов 1960-х, 1970-х и 1980-х годов. Небольшим поджанром и исключением из этого правила является фигура изначально злого ребенка, хотя и здесь ребенок является всего лишь проводником большей и вечной космической силы. Колдуэлл отстаивал тезис о “прирожденном зле” в "Злом ангеле". Она чувствовала, что родители и либералы, выступавшие с речью, проявляли “богохульное обожание детей”, только из “окружения” (1965:59, 72). Мальчик в романе рассматривается психиатром как “психопат”, который считает, что злые дети происходят из-за мутировавших генов. Более двадцати лет спустя автор-психолог, или это эволюционные “откаты назад".
Джонатан Келлерман также утверждает о генетическом зле среди детей. Герой книги считает, что “один квантовый скачок перенес зло из воды на сушу. От акулы до насильника, от угря до перерезающего горло, от ядовитого слизняка до крушителя черепов, с жаждой каплей крови на уровне ядра спирали.”[24] Содержащими эту изначальную ДНК являются те существа, “без совести, без морали, и, довольно часто, ни желанием меняться” (стр. 89). Это включает педофилов по определению, но также включает некоторых малолетних и подростков. Эти люди - “просто зло”, они были и будут, и их нужно удалить из общества, особенно тех, кто уверен в “построении антиобщественной карьеры”. Однако “демократия” утверждает обратное, и Герой Келлермана неохотно соглашается (стр. 90).
В 1980-х годах злой ребенок почти исчез, задушенный невинными жертвами того периода. Только в конце десятилетия, когда социальный шок сосредоточился на детях, которые убивают, злой ребенок вновь появился, сначала в новостях, затем в художественной литературе и кино. "Разносчик газет" (1994) с участием 12-летнего подростка-убийцы (на вид ему 15) был расценен некоторыми критиками как первый фильм о злом ребенке почти за два десятилетия, хотя "Хороший сын" появился годом ранее. Но в пейзаже плачущих невинных 1980-х годов была темная фигура другого убегающего ребенка, видимая только на заднем плане, но сильно ощущаемая. В период, одержимости угрозами от детей, немногие осмеливались внимательно присмотреться к этому угрожающиму, сексуальному ребенку.
2
СЕКСУАЛЬНЫЙ РЕБЕНОК
I
Лесли Фидлер некоторое время назад заметил, что исключение детского секса в художественной литературе - это осознанный культурный выбор, не отражающий реальность (1971b: 486). Если фигура злого ребенка была исследована лишь поверхностно, то сексуальный ребенок, несмотря на спорадические и поразительные появления в популярной культуре, почти полностью игнорировался (как в Eiss 1994). Во многом из-за культурного давления на сексуальность, не подтвержденную браком, патологией, насилием или фарсом, свидетельства о детской сексуальности обычно косвенные, выражения маргинальны по отношению к более общепринятым темам. Добавляя к этому неуловимость, заключается в том факте, что почти все доступные рассказы взяты из воспоминаний взрослых. Память в целом и сексуальная память в частности, как правило, искажаются хронологической дистанцией и личной избирательностью, связанными культурными запасами образов и тем.[1] Более того, воспоминания могут быть просто сфабрикованы, особенно те, которые культивируются на гипнотических и терапевтических сеансах.
В нашей культуре строго ограничены способы говорить о сексуальности детей, и определения этих желаний определяют содержание сложного взаимодействия с контекстом. Например, свидетельские показания в судебных процессах о сексуальном насилии известны своим тщательным и захватывающим рассмотрением конкретных действий. Детали могут быть преувеличены с акцентом на гениталии, и из-за их криминалистического подхода стирается более широкий контекст чувственных, эмоциональных и социальных факторов. Когда речь идет об отношениях по обоюдному согласию, эти свидетельства намеренно замалчивают силовые переговоры и соглашения, а также более приземленные повседневные элементы продолжающихся отношений. Напряженные усилия по отделению любого вида сексуального представления и самовыражения от любой “искупающий” межличностный или социальный контекст является частью определяющих элементов термина “порнография”. То, что обычно называют “детским порно”, может быть результатом встречи или отношений, сильно отличающихся от того, что представляют себе разъяренные и встревоженные взрослые. Рассказы самих молодых людей разрозненны и не поощряются. Чуждая и антагонистичная культуре взрослых, даже сама идея “рассказа”, как того требуют научные или литературные критерии, может быть чуждой социальным отношениям и формам самовыражения молодежи. Поиск этих историй воспринимается как требование к признанию вины. Лэннинг из ФБР дал показания на третьей ежегодной конференции! Конференции по сексуальной виктимизации детей в 1984 году о том, что не только извращенцы коллекционируют фильмы и фотографии, но “особенно ценятся магнитофонные записи и рукописные описания детьми своих половых актов и того, что им нравится от взрослых”.[2]
II
Скудная история сексуального ребенка, которую мы имеем сейчас, на самом деле является историей восприятия и тревог взрослых. Мы мало знаем о реальном поведении и еще меньше об аффектах сексуально активных подростков. Возраст, в котором подростки рассматриваются как понятие сексуальности или способности к сексу варьировалось от культуры к культуре и исторически внутри культур. Некоторые взгляды основывались на простой физической активности, в то время как другие связывали сексуальные способности детей с идеологиями брака и размножения. Фраза “незрелый”, например, относится не столько к психической жизни или поведению, сколько к представлениям о репродуктивных способностях и их месте в гетеросексуальном браке. В самых разных культурах, по-видимому, возрасты 5-8 и 11-13 лет относятся к группам, в которых многие, если не большинство обществ, считают молодых людей сексуальными существами (Рогофф и др., 1975), хотя определения “сексуального” могут варьироваться.
В западных культурах, где доминируют религиозные идеологии, исторический подход к сексуальному интересу детей и его оценка носили запретительный и карательный характер. Отчасти это уходит корнями в классическую греческую культуру. Аристотель, говоря о мужчинах-подростках раннего возраста, но также и о молодежи в целом, сказал, что “именно сексуальность показывает отсутствие самоконтроля” (Риторика, II:12). Поначалу сексуальный ребенок был для некоторых очень опасным ребенком. Во время немецкой реформации протестантские и католические школы делали то, что они могли отрицать или откладывать сексуальность, не связанную со взрослыми. В контексте религиозной культуры того времени секс был не только презренен сам по себе, но и выступал символом других негативных установок и моделей поведения. Считалось, что если исключить секс или, по крайней мере, строго ограничить его, можно было бы создать лучшего человека и сделать более возможной загробную жизнь на небесах. Жан Жерсон (ректор Парижского университета) в 15 веке отстаивал точку зрения на детей как на зло и агрессивно сексуальную. Штраус чувствовал, что Жерсон “был зациклен на кажущемся неудержимых сексуальных влечених мальчиков-подростков”, поскольку он потратил немало усилий, разъясняя их волнующие опасности. Труды того периода содержат гораздо меньше упоминаний о женщинах, но в педагогическом тексте 15-го века говорится, что тела девочек “кипят от жара” (1978: 55f).
К 16 веку некоторые педагоги начали признавать, что сексуальная депривация может нанести физический и психический ущерб, но секс по-прежнему ограничивался определенными обстоятельствами. Не следует пытаться заниматься сексом или поощрять его “в неподходящем возрасте, то есть в детстве или, что еще хуже, в старости”, - написал один из педагогов в 1519 году (стр. 103f). Детская мастурбация оставалась незамеченной до следующего столетия, когда ее стали клеймить позором и наказывать. В 16 веке были введены более строгие ограничения на все, что могло вызвать “похотливые фантазии”. Следовало избегать обнажения и смешанного купания; дети должны были оставаться одетыми из опасения, что их нагота может стимулировать взрослых. Детям давали указания в школах, затем в религиозных учреждениях. Штраус цитирует ответ на катехизис из текстов Губерина 1544 года, в котором ребенок перечисляет грехи против шестой заповеди:
Все плотские, нечистые и нецеломудренные мысли и порочные желания, такие как поиск недозволенных стимуляций и возбуждений, непристойные жесты и провокационные разговоры, пение непристойных песен, непристойные шутки, чтение непристойных историй или рассматривание сладострастных картин с целью возбуждения в себе развратных вожделений и, следовательно, к распущенности.
Штраус заметил, что “было бы странно, если бы эти наводящие на размышления намеки не пробудили сексуальных мыслей у детей” (стр. 104). Триста лет спустя в Европе эта проблема все еще существовала. В конце 19 века священникам советовали, не расспрашивайте подростков о мастурбации, поскольку они считали, что дети не могут этого делать. С другой стороны, некоторые священники подвергались дисциплинарным взысканиям за то, что “указывали детям на те части тела, к которым они не должны прикасаться, и за постановку вопросов... " несомненно, распущенного характера...вероятно, это чрезмерно возбуждает воображение очень маленьких детей и развивает в их головах нездоровые идеи” (Зельдин 1970:20, из судебного дела 1879 года).
Сексуальный ребенок продолжал оставаться объектом беспокойства и возбуждения для блюстителей нравственности и в 18 веке, когда общество расширило использование этого образа до обоснованных социальных и индивидуальных тревог. Поскольку концепции и обязанности родительских ролей менялись на протяжении 18-го и 19-го веков, чему охотно помогали новые эксперты и театрально ориентированная новостная индустрия, сексуальный ребенок стал объектом отвращения и почитания, ненависти и идолопоклонства, наказания и наживы. Одним из объектов поклонения романтизма 18-го века было “дитя природы”, незатронутый, неиспорченный ребенок или взрослый, похожий на ребенка. Это означало, что женщины и дети должны были быть тщательно защищены, чтобы сохранить свою “естественность”, склонности, приводящие к почти религиозному увлечению молодостью и физическим превосходством, выражающимся в красоте, силе, здоровье и жизнеспособности. Именно в этом контексте можно искать основы того, что стало известно как “лолитаизм”. С этой точки зрения, защищенная невинность скрывает “естественный” резервуар чистой инстинктивной страсти, бурлящий котел “бесхитростности” и “дикой откровенности” (Фэйрчайлд 1961: 394f). Изображения такого рода можно найти в американском обществе с начала 19-го века. Рейнольдс описывает живые картины, в которых люди позировали перед аудиторией в различного рода сценах либо на сцене, либо на частных вечеринках. В них, особенно в коммерческих вариантах, часто предлагались “мимолетные взгляды на соседскую девушку”, в которых невинность смешивалась с похотью (Рейнольдс 1988: 214ff). Это продолжалось и в следующем столетии; Банта говорит, что образ американской девушки сочетает в себе невинность с явными намеками на эротику, но актрисы-подростки раннего немого кино подчеркивали абсолютную невинность (1987:1; Кобал 1985).
В настоящее время существует несколько сил, которые объединяются, чтобы создать гомогенизированную идею женской и детской сексуальности. Основным элементом был акцент на “невинности”, части более масштабного противостояния тела и разума. Разделение поддерживало ксенофобский акцент на соблазнении и параноидальный страх перед сексуальными проявлениями. Идея невинности в своих наиболее явных формах превратилась в страх перед сексуальным осознанием (Коминос 1972: 159). Объекты интенсивного наблюдения, женщины и дети, которые проявили какие-либо признаки сексуальных знаний, интереса или деятельность рассматривалась как болезненная и опасная. Предполагаемая близость к природе, как для детей, так и для женщин была близостью к гоббсовским джунглям. “Природа"’ олицетворяла необузданное (или необъяснимое), и англо-христианская цивилизация считалась единственным воплощением морали и прогресса. Без целомудрия и воздержания единственной альтернативой было необузданное, оргиастическое чувственное расточительство, остановленное только ужасной, но вполне заслуженной смертью. Стихотворение Кристины Россетти “Рынок гоблинов” (1862) - это история о том, как две юные сестры разрушенный чувственным и раболепным наслаждением фруктовым пиршеством, к которому их подтолкнули соблазнительные демоноподобные гоблины.
Как в действительности, так и в художественной литературе абсолютная невинность уравновешивалась обещанием превратиться в сексуального зверя, если его спровоцировать. Говоря о “зрелости не по годам развитого опыта” соблазненной героини в его романе, Липпард сказал, что ее сексуальный опыт навсегда остался “пятном на ее душе". Преступление не только запятнало ее личность бесчестием, но, подобно тошнотворному теплу теплицы, заставило цветок ее души внезапно и неестественно созреть” (1845:I:124). Брейс уверял своих читателей, что женщины более восприимчивы к “сексуальному пороку”, и если их “низшая природа” “пробудилась” до “зрелости разума”, она была перемещена “за пределы всех человеческих возможностей очищения” (1872: 115). Это демоническое проявилось в персонажах "Роковой женщины" и некоторых версиях "Лолиты". В ряде романов 19-го века появляется невинная, похожая на ребенка героиня, которая оказывается безумной и/или сексуально угрожающей и нарушающей закон. Бодлер, как обычно, был ближе к делу: “дочь, с инфантильной распущенностью, в колыбели ей снилось, что она продает себя за миллион” (1977:22).
В этом есть два аспекта. Один - соблазнительный, хищный и опасный ребенок. Голден цитирует сцену из "Ос" Аристофана, в которой девушка, целующая своего отца, использует свой язык в поисках денег, которые он прячет у себя во рту. Голден серьезно называет это “детским помпоном”: “невозможно ошибиться в непристойном образе маленькой девочки, целующейся по-французски со своим стариком”.[3] Некоторые видят прототипы в 18 веке, как это делает Чарльтон, когда говорит, что одну из девочек нарисовал Жан-Батист Грезе (1725-1805) “неприятно чувственен”.[4] На автопортрете Франца фон Ленбаха "Со своей семьей" (1903) поразительно изображена его дочь, лукаво смотрящая на зрителя.[5][5a] Иллюстрация Чарльза Даны Гибсона (Banta 1987: 627, рисунок 14.33) изображена девочка с куклой в руке, представляющая домашнюю жизнь, но у нее слегка демоническое выражение лица, а поводья привязаны к мальчику, который играет лошадь на четвереньках, склонив голову. В фильме Генри Джеймса “Часы и Уорд" герой смотрит на 12-летнего ребенка, которого он усыновляет, одновременно с интересом и подозрением: "несмотря на ее детскую невинность...в этом было что-то бесспорно вульгарное”. Девушка - “не по годам развитая, потенциальная женщина”, и когда он обнимает ее за талию, “Непреодолимое ощущение ее детской сладости, ее нежного женского обещания мягко проникло в его пульс”. Он целует ее, а затем характеризует ее более устрашающе (или с надеждой), снова ссылаясь на ее “зародыш женственности” (1979:32ff). Другая демоническая ветвь - это взрослая женщина, которая использует детские качества в качестве техники соблазнения, хотя ясно, что “невинность” - всего лишь фасад. Уильямс (1985) отмечает популярность французской актрисы середины 19 века “Рэйчел”, которая смогла охарактеризовать “скромную... девственную чистоту” снаружи и зловещую, дегенеративную фатальную силу внутри. Такие характеристики подчеркивали моральную и физическую дегенерацию и были очень популярны в театре середины-конца 19-го века.
Само словосочетание “сексуальный ребенок” для многих было противоречием в терминах. Время от времени предпринимались попытки слияния, но в конечном счете они были подавлены более сильными, более реакционными опасениями в религии, науке и праве. Подросткам может быть дано разрешение на секс со сверстниками, иногда более неохотно, чем другим, но разрешенный секс между сверстниками поддерживает более широкие традиционные взгляды на социальную организацию и значение возраста и пола и по-прежнему позволяет контролировать сексуальность молодежи; большинство штатов фактически криминализируют секс со сверстниками среди несовершеннолетних. Чаще всего эротические устремления молодежи перенаправлялись в приемлемые формы: религии и материнской привязанности для девочек, а для мальчиков - военное дело, бизнес или спорт. К середине-концу 19 века в этих областях находились самые священные ценности культуры идеалы; те, кто был исключен, подвергались усиленной стигматизации, и Уилсон утверждает, что исключение привело к столь же преувеличенным сексуальным интересам — знаменитым “извращениям” сексологов 19-го века.[6] Одним из них был сексуальный ребенок, а другим - взрослый, вступающий в сексуальное взаимодействие с детьми. Образы Лолиты и Гумберта по необходимости родились в одно и то же время, они являются продуктом исторически сложившегося культурного контекста, и они служат лишь одной конфигурацией из многих возможностей для отношений между молодежью и взрослыми.
Двойственность невинного сексуального демона сохраняется до настоящего времени. Существуют разновидности, некоторые подчеркивают невинность, некоторые - “естественность”, некоторые - раскованное сексуальное наслаждение. Культ маленькой девочки 19-го века возвел реальную или воображаемую невинность почти до божественных размеров. “Культ” в его английских версиях был не столько всплеском педофилии, как предполагают некоторые, но частью более широкого так называемого Оксфордского движения, начавшегося в 1830-х годах.[7] Это было светское и духовное движение, по сути консервативное, подчеркивающее благоговение, преданность, ритуал, символизм и сентиментальность. Оно поражает своей эмоциональностью текстов, многие из которых радостно чувственны, несмотря на то, что Движение подчеркивало театрально-романтический обет безбрачия.[8] Акцент делался на крепкой, откровенно нежной дружбе между взрослыми и молодежью широкого возрастного диапазона. Многие подобные дружеские отношения среди женщин того периода были связаны с этим более широким взглядом на отношения, а не только с лесбийским влечением. Новая фаза Движения началась во второй половине века и оказала влияние на культуры Европы (особенно Германии), Англии и Америки. Именно в этот более поздний период появляются более откровенные сексуальные намеки, одни позитивные и праздничные, а другие более мрачные и демонические. Этот период в 1900-х годах включал в себя некоторые представления о сексуальной невинности (как в "Мечтательной юности" Оскара Кокошки), но большинство обращалось к представлениям о целенаправленно сексуальной молодой женщине. Художники специально создавали такие фигуры: Джордж Минне, Фердинанд Ходлер и “Сфабрикованные фотографии” поэта Петера Альтенберга, Эгон Шиле был привлечен к ответственности за некоторые из своих работ. Поворот был объяснен по-разному и воспринимается как бегство от роковой женщины или реакция на “сладострастную женщину" 1870-1880-х годов, ”Женщина-ребенок" могла быть либо подростком, либо женщиной препубертатного возраста (“хрупкая женщина” Боровица, 1974), либо взрослой женщиной, которая была "первобытной" или сексуально раскованной (Тиммс, 1990). Эти концепции, принятые за реальность, сохранились в 20 веке, включенные в сферу медицины, психиатрии и социальные работы.
III
Американские представления о детской сексуальности в целом тяготели к полюсам чистоты и уязвимости, или хищничества. Фигура “малолетки”, которая так часто появлялась в популярных песнях после Второй мировой войны, была выражением о молодых подростках, испытывающих сексуальное влечение друг к другу, или о более проблемных отношениях молодых подростков и любовников постарше. Песни были в основном написаны с мужской точки зрения, когда желанием его сердца была девушка помоложе, печаль от этой неразделенной любви и угроза тюрьмы (Huffman and Huffman 1987). Это было относительно новое и независимое частичное озвучивание для молодежи в неодобрительном контексте взрослых. Эротические изображения детей появлялись эпизодически с конца 19-го века. Сюрреалисты в начале 20-го века, такие как Ханс Беллмер и Дортея Таннинг, иногда использовали образы девочек-подростков в своих работах, как часть сюрреалистической эстетики ниспровержения и освобождения. Хотя Бальтус и не сюрреалист, он хорошо известен своими картинами с изображением молодых женщин. Фотографии сексуальных детей (или чувственные фотографии детей) имели более бурную карьеру. Некоторые из них появились в конце 19 века, затем в значительной степени исчезли до середины 1960-х годов.
В конце 1980-х и начале 1990-х годов некоторые фотографы, заявлявшие о “художественных” намерениях, создавали исследования молодежи, которые вызывали как страх, так и восхищение. В 1985 году набор из четырех фотографий фотографа-документалиста Алана Пога был снят с выставки в Остине, штат Техас, после жалоб на его “попытку навязать публике извращения”. “Неизбежное сравнение” показывает, как двухлетний мальчик сравнивает свой пенис с пенисом взрослого мужчины. Сенсационный и глупый телевизионный репортаж (“Тонкая грань между детской порнографией и изобразительным искусством”, KXAN-TV) вызвал проверку работы полицией; никаких обвинений предъявлено не было, но было подслушано, как некоторые офицеры жалели, что у них нет предлога “проникнуть в его фотолабораторию”, подозревая еще одну “потайную комнату” с захватывающими сексуальными ужасами.[9]
Работа Роберта Мейплторпа подверглась цензуре, а в 1990 году материалы Джока Стерджеса были изъяты ФБР, и оба события получили широкую огласку. Изъятие не только фотографий и художественных работ Элис Симмс, но и ее детей также получило широкую огласку в прессе в середине 1988 года. Фотокнига Салли Манн о молодых женщинах (1988) не столкнулись с какими-либо реальными трудностями, хотя в отношении нее проводилось расследование по обвинению в сексуальном насилии над детьми. Некоторые рецензенты (Levin 1988) изо всех сил старались отличить ее работу от материала, который “щекотал бы Humberts” (и также навешивал ярлык поклонников Humberts), признак того, что у людей все еще были значительные проблемы с восхищением чувственностью молодежи, не прибегая к козлу отпущения. Вудворд (1992:36) с беспокойством заметил в своем обзоре "Ближайших родственников Манна" (1992), что фотографии "кажутся ускоряющими взросление [детей], полагаясь на осведомленность родителей". В конце 1980-х годов была выдвинута идея, что до тех пор, пока фотограф и зритель не были педофилами или не “поддались” страсти к детям (как Коэн говорит, что Кэрролл/Доджсон этого не сделали), тогда визуальные эффекты, как и дети, остались невинны, а зритель не подлежит аресту и обращению.[10] Мэрилин Леннон, фотографии 12-летней девочки стали причиной расследования в отношении нее, поскольку полиция опасалась, что фотографии могут быть проданы “для возбуждения педофилов”.[11]
Несколько наблюдателей указали на различие между педофилией в популярной культуре (то есть традиционные образы педофилов и секса между взрослыми и молодежью) и педофилия массовой культуры, в частности, эротизация молодежи самим конвенциональным миром, будь то через школьных болельщиц, спортсменов или рекламу, чрезмерно отрицаются и энергично становятся козлами отпущения. В более ранний период Анделин рекомендовал “сходство с ребенком” как тактику поддержания сексуального интереса в браке; жену поощряли одеваться в детскую одежду и соблазнительно вести себя как ребенок.[12] Выражения такого рода были менее откровенными со стороны семьи с конца 1970-х до середины 1990-х, за одним интересным исключением.
В начале-середине 1990-х вновь появились стили, которые подчеркивали образ маленькой девочки для женщин. Мода 1991 года была довольно сдержанной (Анонимно 1991b), но волна 1993 года подчеркивала более детскую внешность, и подросткам советовали одеваться соответственно (Anonymous 1993k). Модель первого сорта, “беспризорница”, 19-летняя Кейт Мосс была упомянута в сериале ABC “A Current Affair” (3 ноября 1993 года) как “все еще ребенок” и "женщина-ребенок"; опасались, что она была образцом для подражания, для девочек-подростков. Что касается the second variety, то отраслевое издание отметило, что “Лолита - самая популярная девушка в городе в этом сезоне, и она вдохновляет на создание множества кукольных образов.”[13] Психолог-консультант Лесли Пэм сказала, что мужчина, которого привлекает внешность куколки, “хочет девушку, которая не будет подвергать сомнению его авторитет...Он мистер Власть!” (Аноним, 1995а). Третья разновидность, “образ шлюхи”, продолжал появляться то тут, то там, иногда оправдываясь: дизайнер школьных стилей Кристиан Рот объяснил, что его девочки “немного распутные... но не неряшливые” (Fashion Television, V1, 29 июля 1994). Возможно, это довольно тонкое различие, но важное. “Образ шлюхи” развивался в двух основных направлениях: взрослые одеваются как дети-шлюхи, а молодежь - как взрослые шлюхи. Художник-карикатурист Пол Корио рассматривал “образ киндер-шлюхи” как стилистическую изюминку 1994 года (Entertainment Weekly, 30 декабря 1994, стр. 2-3). В 1993 году Овербек жаловался: “Сегодняшние старшеклассницы уже давно одеваются как уличные профи; но с каких это пор начальная школа превратилась в демонстрационный зал Frederick's of Hollywood?”[14]
Еще одна проблема, связанная со стилем препубертатного возраста: стройность. В начале 1994 года была создана группа под названием “Бойкотировать анорексичный маркетинг", чтобы исключить использование таких моделей, как "супервизор" Кейт Мосс и Кристен Макменами. Группа, к которой присоединилась Национальная организация в защиту женщин, утверждала, что реклама поощряла строгую диету. Стимулом для кампаний послужила группа поддержки “ультратонких " по борьбе с расстройствами пищевого поведения, но в протестах присутствовала озабоченность “лолитаизмом”. Использование Макменами (ее прозвище было “Скелет”) в рекламе диетических спрайтов ее высмеивали, потому что многим женщинам она казалась мальчиком-подростком. Мосс раскритиковал рекламу Келвин Кляйнза то, что она якобы выглядела слишком молодо и она была в рекламной кампании, имевшей “откровенно сексуальный оттенок”.[15] В 1960-х и начале 1970-х годов в молодежной моде для взрослых был представлен образ ”школьницы", а в конце 1970-х Calvin Klein стал самой известной из компаний, использующих моделей подростков, которые шокировали некоторых взрослых (Sonenschein 1984).
В августе 1995 года Calvin Klein выпустил серию рекламных роликов для broadcast и печати СМИ, целью которого было показать “идею дилетантизма и осведомленности СМИ, а также силу личности и самопознания современной молодежи. Что эти [модели] показывают, так это то, что они знают, как действовать, как контролировать ситуацию и как реагировать по-своему”. Для некоторых, однако, все, что они видели, были обнаженные молодые мужчины и женщины в “вызывающих позах в нижним бельем” (Goldman 1995). Они назвали рекламу “детским порно” и опасались, что она может “понравиться педофилам”. Телевизионная реклама, в частности, вызвала немало напуганных, некоторые видят в них инсценировку как сеанс “детского порно”, на котором пожилой мужчина с серьезным голосом, невидимый за камерой, манипулирует позами юных моделей, предположительно “формула детского порно."[16]
Окружной прокурор Нью-Йорка и ФБР пообещали выяснить возраст моделей для возможного судебного преследования (некоторым из них предположительно было 14-16 лет). Патрик Труман, директор по правительственным связям Американской ассоциации семьи, призвал провести федеральное расследование; Труман, ранее возглавлявший отдел по эксплуатации детей и отдел непристойностей Министерства юстиции (1988-1993) заявил, что Кляйн эксплуатировал детей в течение многих лет (Dateline NBC, “Я и мои Келвины”, 12 сентября 1995). Дональд Уайлдмон из этой группы хотел, чтобы СМИ, размещавшие рекламу, также подверглись судебному преследованию (Слоан и Декурси, 1995), используя печально известное решение Нокса, согласно которому изображения одетых несовершеннолетних лиц могли преследоваться, как порнография. Рекламный истеблишмент также был возмущен. Кляйн вышел “за пределы беспричинности, за пределы щекотки, за пределы вульгарности к самой сути нашего моральные чувства. ... достаточно плохо прославлять и раздувать пламя подростковой сексуальности. Но изображать детей как секс-игрушки, выставляющие напоказ перед взрослыми, - это черта, которую нельзя переступать”, - писал рекламный журналист Боб Гарфилд (Bob Garfield, 1995). Другие использовали похожие клише: “Суть кампании - принуждение и разоблачение, а также страх и тревога со стороны моделей. Реклама передает доминирование взрослого над ребенком и возможное сексуальное насилие. Молодой человек демонстрирует нежелание, запугивание, ощущение, что его принуждают”, - сказал консультант по рекламе Кэрол Муг (DeCoursey, 1995). Как и ожидалось, Лео (1995) был в восторге от “жутких фотографий” и охарактеризовал молодежь в рекламе как пример “самого разбомбленном и безнадежно тупого.” В превосходном документе о культурном переводе Дауд (1995) переделал слова Кляйна, чтобы показать, что на самом деле он якобы хотел только поощрять подростковый секс, заботиться только о продажах и получал удовольствие от нарушения социальных норм.
Репортер Dateline спросил одного мужчину-модель, возмущается ли он тем, что его “троллят как объект для педофилов”. Молодой человек, как и другие участники target рынока (от 14 до 19 лет), были равнодушны к банальным изображениям и удивлены реакцией; многие говорили, что сами появлялись бы в такой рекламе (Анонимно 1995b), продолжая покупать продукты. В репортаже кабельной новостной сети (7 сентября 1995 г.) утверждалось, что Кляйн неправильно истолковал популярную культуру”. Точнее, если Кляйн и “неправильно истолковал” что-либо, так это политическую культуру, которая закодировала свои значения в законах, значительно увеличивающих наказания в отношении секса и молодежи. Один журналист предположил, что возбужденные зрители чувствовали себя “некомфортно из-за [рекламы], напоминающей им о том, как сексуализированными стали их 13-летние дети” (Elliott 1995). Хотя это наблюдение и ближе к истине, оно все же отрицает сексуальность молодежи и предполагает обычного стороннего агитатора, манипулирующего невинными детьми. Люди, создавшие рекламу, на самом деле точно “прочитали” свою эталонную культуру и сделали серию рекламных роликов, которые глубоко оскорбили часть общественности, потому что, намеренно или нет, они высмеивали истерию сексуального насилия над детьми, которая была вездесущей более десяти лет. Представления о невинной молодежи и педофиле изображались как мелодраматичные и поверхностные стереотипы, какими они и были, и те, кто так глубоко вкладывался в такие жесткие образы, были возмущены, увидев их карикатурными перед всем обществом. Реклама была важнейшим артефактом массового несмотря на попытку культуры обработать информацию и влияние паники по поводу жестокого обращения.[17] Ни один критик не увидел в рекламе никакого юмора, настолько они были захвачены собственным негодованием. MTV попыталось подделать рекламу на своем шоу Music Video Awards в сентябре 1995 года, используя голоса за кадром, похожие на голоса Бивиса и Баттхеда, но они сильно усилили момент, сделав юмор в рекламе более откровенным.
Нет сомнений в том, что реклама была провокационной; Кляйна всегда обвиняли в этом. Наибольший гнев вызвала телевизионная реклама, которая, записывая сеанс с использованием “визуального жаргона” любительской фотографии; действительно, “порнография” определяется в меньшей степени, хотя все еще явно профессиональным производством, имитируемым сексом, чем эстетикой самости и социальности (Sonenschein 1969, 1972). Так называемая “формула детских помпонов”, которая так взволновала людей, была всего лишь разнообразие эстетических элементов, присущих большинству повседневных снимков и видео, а также большинству сексуальных визуальных эффектов. Реклама, казалось, заглядывала в частный или секретный мир, получая доступ к интимной обстановке в отделанной панелями комнате для шумных вечеринок. Темы в рекламе, такие как многие на моментальных снимках казались “невольной добычей объектива камеры” (Кинг 1984:62), фотограф обладал “трансцендентной властью”. Как дети на домашних фотографиях, наивность юности перед злым педофилом или любящим родителем приковывает взгляд зрителя. Реклама, также как и любительские снимки, содержала достаточно анонимности и двусмысленности, чтобы зрителю нужно было, во-первых, предоставить контекстуализирующее повествование о событии и, во-вторых, переместить зрителя в благоприятный статус, прощающий любой непреднамеренный вуайеризм или возбуждение.
Реклама была снята в начале сентября, а в ноябре 1995 года Министерство юстиции объявило, что ни в одной из рекламных роликов, которые беспокоили многих зрителей, не фигурировали несовершеннолетние модели.[18] Реклама и другие экспозиции дали критикам повод оплакивать “каждого культурного вампира, прижимающего к губам замолчавшую молодежь, вдыхающего в их глотки свои собственные дрянные слова”, как драматично выразился Саттон (1996:27). Сорен (1995), все еще принимая такие термины, как “детская порнография”, провел краткий обзор текущего момента, призывая к менее бурной реакции принимая во внимание “намерение изображений сексуализированных детей”, то есть, стремятся ли они к “искусству". Изображения сексуальных детей в фильме - это, скорее, изображения сексуальных подростков. Они варьируются от молодых подростков, собранных Д.У. Гриффитом и другими, до 14-летней Сью Лайон, выбранной на роль в фильме "Лолита", до таких актрис, как Шарлотта Генсбур, которую называют новой “Лолитой".[19] Французский фильм "Любовник“, в котором у 15-летней женщины и 27-летнего мужчины роман, был специально смонтирован для американского рынка, потому что режиссер не хотел "руководить, Американская аудитория пошла по ложному пути."[20] Было несколько интересных второстепенных фильмов, таких как "Майор и минор" (1942), в котором персонаж Джинджер Роджерс - взрослая женщина, переодетая 12-летней девочкой, и как таковая привлекает романтическое внимание героя;[21] "Холостяк и Бобби-боксер" (1947), в котором 17-летняя девушка (Ширли Темпл) влюбляется в мужчину постарше (Кэри Грант); "и Сьюзен спала здесь" (1954), в котором Дебби Рейнольдс играет 17-летнюю девушку, а Дик Пауэлл — 35-летнего. Последние два фильма - типично американские характеристики, не обращающие внимания на сложности послевоенной молодежи, роли, от которых молодежь в течение нескольких десятилетий бежала в страхе, отвращении и ярости.
Открытая молодежная сексуальность отсутствовала по большей части на протяжении 1930-х и 1940-х годов, хотя интересным исключением является фильм “эксплуатация” Невеста-дитя. Главная героиня 12-13 лет (Ширли Миллс) становится малолетней невестой против своего желания, но перед бракосочетанием ее спасает учитель/социальный работник; неряшливый муж-деревенщина убил отца девочки, но позже погибает сам. Сюжет фильма, критика детских браков заключается в том, что женщины слишком молоды, чтобы рожать детей. Типично для этих фильмов, что девушка эротично представлена в нескольких сценах, и есть сцена купания обнаженной с кадрами ее топлесс. Большой резонанс вызвала рецензия Грэма Грина на книгу Ширли Темпл в 1936 “Крошка Вилли Винки”, в котором он увидел привлекательность Темпл как "более тайную и более взрослую". Он сказал, что в “Капитане Январе” она продемонстрировала “ищущее кокетство”, “зрелую суггестивность” и "аккуратный и хорошо развитый зад". Ее появление в “Крошке Вилли Винки" вызвало у аудитории "вздох взволнованного ожидания у ее старинной подруги", и ее присутствие, по словам Грин, было “порочностью с ямочками на щеках”.
Это умно, но это не может длиться вечно. Ее поклонники — мужчины средних лет и священнослужители — реагируют на ее сомнительное кокетство, на вид ее стройного и желанного маленького тела, наполненного огромной жизненной силой, только потому, что защитная завеса истории и диалога опускается между их интеллектом и их желанием.
Это прекрасно воспринято и хорошо написано, на самом деле достаточно убедительно для Twentieth Century Fox, чтобы подать иск о клевете от имени Темпл и студии. Решение было вынесено не в пользу Грина; он был оштрафован, а издательство журнала потерпело финансовый крах. После Второй мировой войны наступил период энергичной переделки женских ролей и статуса. Согласно Симоне де, женщины в кино развивались в двух основных направлениях Бовуар: одна была “полноценным” типом, таким как Софи Лорен, а другая была похожей на ребенка женщиной, такой как Одри Хепберн и Брижит Бардо, последняя использовала некоторые элементы более ранних эпох немого кино, добавляя некоторые новые повороты, образы, в основном созданные мужчинами (де Бовуар, 1960; 8f). Существовал и другой тип ребенка - подобный женщине, лучше всего сыграли Мэрилин Монро, Джейн Мэнсфилд и Мэйми ван Дорен. По сути, это были продолжения тупых блондинок 1920-х годов, но в 1950-х дистанцирование преувеличивало женщин физически и обесценивало их эмоционально и интеллектуально. Эти типы на самом деле являются родственницами традиции роковых женщин. Хотя они и не были расчетливо злобными, их забывчивость все равно сулила герою неприятности, даже если это была разновидность "пирога в лицо". В текстовом мире все было по-другому. Роман Набокова оказал невероятное влияние с юридической, социальной и психологической точек зрения. Это был самый ранний широко распространенный, читаемый с подробностями о “нимфетках”, женщинах от девяти до юных подростков,
которые некоторым заколдованным путешественникам, вдвое или во много раз старше их, раскрывают свою истинную природу, которая не человеческая, а нимфическая (то есть демоническая)... В пределах этих возрастных ограничений все ли девочки-нимфетки? Конечно, нет.... [Нимфетки обладают] определенными таинственными чертами, грацией феи, неуловимым, изворотливым, разбивающим душу коварным очарованием… слегка кошачьими очертаниями...маленький демон среди здоровых детей; она стоит неузнанная ими и сама не сознающая свою фантастическую мощь. ... [С промежутком, по крайней мере, в 10 лет.] определенный контраст, который разум воспринимает с придыханием от восторга.[22]
Гумберт видит двойственность в каждой нимфетке: “нежная мечтательная детскость и своего рода жутковатая вульгарность” (1977:43), почти повторяющая текст Джеймса 1878 года. Вначале Ло сексуально прямолинейна, хотя по ходу романа она приобретает все больше черт, которые можно было бы назвать “синдромом жертвы”. В его более ранней версии (1987:62, 81, 88), девушка изображена жертвой и пленницей. В 1960-е и 1970-е годы наблюдалось наиболее широкое и откровенное проявление сексуальности молодежи.[23] Сексуальный ребенок в литературе обычно - это либо индивид, вынужденный заниматься сексом, либо тот, чье сексуальное поведение и чувства на сегодняшний день являются выражением зла и оккультных влияний. Одной из разновидностей этого была 13-летняя девочка, подвергшаяся растлению и убитая в романе Диснея 1965 года. Она происходила из семьи рабочего класса, и поэтому ее сексуальное поведение было более подозрительным. Она была более физически зрелой, чем другие ее ровесницы, и, как известно, преследовала мальчиков “постарше” (15-летних). Полиция, называя ее “не по годам развитой”, подозревают, что девочка, возможно, нашла человека, который ее убил, и была “добровольной жертвой"; “Они все время начинают с более молодых лет,” - сказал полицейский. (1990: 121f, 85).
В середине и конце 1970-х "злой ребенок" ослабил свою сексуальную значимость. Бассинг (1987: xvi) предполагает, что авторы ужасов намеренно подавляют сексуальность детей, чтобы драматическая угроза невинности могла быть тотальной. Это, безусловно, было правдой в отрасли мира развлечений, известной как “новости”, но некоторые писатели-фантасты действительно использовали сексуальную молодежь в качестве “жертвоприношений”, например, ребенок-вампир Клаудия, в "Интервью Энн Райс с вампиром". Реже они служили фоном для дальнейшего определения злодейства. Например, главный злодей в романе Брауна подбирает молодую девушку на железнодорожной станции. Несмотря на то, что он жаждет секса (“Она была слишком разборчива, решил он, для чего-то обычного, например, просто рук...”), он дает ей возможность уйти, но она сама находит причины проводить с ним больше времени.
Она аккуратно сняла свою одежду, сложила и с уважением повесила ее. Белые хлопковые трусы, как он и надеялся. Она не пыталась скрывать что угодно, кроме своей застенчивости. Ее густые здоровые волосы соломенного цвета казались длиннее, ниспадая на обнаженные плечи. Самые длинные из них пытались скрыть ее грудь. Она сказала, что ей четырнадцать. Ей было тринадцать, только что исполнилось. Она никогда ничего не чувствовала, только удивлялась. ... Почти сразу же, как только он прикоснулся к ней, она испугалась ощущений. Через несколько мгновений ей показалось, что она умирает. Она испытала удовольствие, которое он дарил ей, такое свежее, такое легкое. Влажных губ вокруг одного из ее сосков в течение минуты было достаточно, чтобы заставить ее добиться своего. (1978:274)
Этот текст менее жесток в своей характеристике злодейства и более прямолинеен в изображении сексуального подростка, чем должны были быть работы 1980-х годов. Это было более “естественное” выражение, чем более поздние экспозиции, в которых использовались переработанные идеи неестественного, извращенного и оккультного. В романе ужасов Фарриса герой одержим демоном. Для этого демон посылает ему духовное воплощение Полли, 12-летней подруги героя. Дух Полли сообщает подруге героя, что герой хочет поиграть с ней, “Мышку” Полли, которую она показывает подруге, задирая свою призрачную ночную рубашку и демонстрирующая “светящийся животик своей наяды и ниточку на откровенном лобке". (1985:29), затем показывает свои “прелестные девственные груди, которые дрожали как бледный плод на ветке”. Привлеченный манящим духом Полли, герой входит в комнату и обнаруживает ее прикованной к кровати, утверждающей, что таинственное агентство избило ее ремнем с шипами. Пока он стоит как вкопанный, она демонстрирует ему рубцы, снимая юбку, снимая белые хлопчатобумажные трусы. Герой, рассказывает нам Фаррис, “не был готов к округлости, полноте ее ягодиц. ”Ты можешь снять их, - сказала Полли, - чтобы тебе было лучше видно" (стр. 50). В награду за то, что он поддался одержимости, демон дарует герою исполнение его желания обладать половым актом с Полли. В последовательности, похожей на сон, Полли лежит на атласных простынях, “ее нижняя губа... зажата между зубами, когда она умоляет о сексуальном контакте. Тяжело дыша, маленькая пухлая грудь поднимается и опускается”. Бесчувственный герой входит в нее. Он смотрит вниз на совокупление и видит, что “простая, смазанная маслом вульва Полли, чистая, как фарфор, имеет ярко-розовый оттенок там, где она обхватила его член со змеиными прожилками. Он казался грубым и преувеличенным там, где она была наиболее изысканной”. До него наконец доходит, что он занимается сексом с 12-летней девочкой, и он пытается остановить себя, Полли, тем не менее, хватает его пенис и удерживает его в себе, пока он не кончает. Он лежит там, “распаренный от стыда, все еще погруженный в мокрое влагалище ребенка”. Запятнанная героем-зверем, Полли тоже лежит с каплями его слюны на своих “пышной груди".[24]
В середине 1980-х годов Эренрайх, Хесс и Джейкобс полагали, что “символическое значение женского целомудрия быстро исчезает” (1986:2). Однако в то время государство пропагандировало воздержание в качестве официальной политики, и истерия сексуального насилия над детьми была одержима асексуальностью. Возможно, у некоторые осознали, что битва за контроль над женщинами проиграна, даже в их собственных рядах, и что необходим новый инструмент, который позволил бы лицензировать желаемые формы социального контроля. Символическая важность целомудрия была перенесена на молодежь с удвоенной силой. К началу 1980-х годов и демонический ребенок, и сексуальный ребенок были отодвинуты на второй план невинным подростком, который был либо “в группе риска”, либо серьезно травмирован сексуальностью, которая могла быть только внешней по своим источникам. Ситуации в начале десятилетия все еще были несколько амбивалентными. Гутчон (1981: 154f) героиня понимает, что почти во всех сексуальных отношениях между подростками и взрослыми не хватает силы, и находит это “любопытным”; однако она настаивает на том, что молодым людям прививают “испорченное” чувство власти. Некоторые женщины-подростки в романе Кэмпбелл (1987) сопротивляются “спасению” от проституции или оргий, даже несмотря на то, что контекст любого секса между взрослыми и молодежью представлен в негативных терминах.
Сексуальный ребенок оставался проблематичным для авторов художественной и нехудожественной литературы. Роман Левина касался проблемы продажи младенцев на усыновление, а не секса со взрослыми, но есть небольшой подзаголовок, возможно, задуманный как комический, в котором взрослый сообщает о трех подростках, которые, похоже, занимаются сексом. Вмешиваются социальные работники, подвергают их медицинскому осмотру и, не обнаружив никаких признаков сексуальной активности, объявляют, что они не находятся в “опасности” — они просто целовались.[25] "Спящий пес" (Лохте, 1985) соединил 14-летнюю молодую женщину (ей только исполнилось 15, самый безопасный возраст) с невзрачным мужчиной-детективом за 40. Несмотря на то, что ее привлекает этот мужчина, герой избегает любого эротического взаимодействия. Юнная — сексуально осведомлена, но не проявляет никаких сексуальных чувств. Книга фактически содержит антисексуальное послание для молодежи, когда героине советуют подождать, пока ей не исполнится 18 лет, чтобы заняться сексом (Лохте 1985: 212f; Уиллефорд 1985: 176; 156). Пара оказалась популярной, и Лохте выпустил продолжение "Смеющийся пес" (1988). На этот раз между ними нет и намека на какую-либо эротику. Однако в романе есть эпизод, где 15-летняя девушка выдает себя за бывшую жену частного детектива, которой дали наркотики. Она занимается с ним сексом, чтобы сбить его с толку, и когда он узнает то, что произошло, его глубоко огорчает; герой извиняется.
Долгое время пятнадцатилетний возраст казался в американской культуре точкой отсечения для неформального предоставления сексуальности молодым людям. Для фильма, "Блюз полового созревания", возраст женщин, вступающих в половую жизнь, был увеличен с 13 лет, как первоначально было написано женщиной-автором, до 16. В середине 1987 года телевизионная комедия Женатый... "С детьми" впервые вышел в эфир, вызвав значительную критику. Терри Раколта начал кампанию по рассылке писем в 1988 году, чтобы отговорить спонсоров от рекламы на шоу, пропагандировавшее “беспричинный секс и насилие”. Она была на удивление успешной, и ее усилия получили широкую огласку (Аноним 1989d). Особое раздражение вызывал персонаж 15-летней Келли (Кристина Эпплгейт), изображенная как сексуально активная молодая женщина. Героиня столкнулась с настойчивым требованием подросткового целомудрия в то время, но сериал продолжался без изменений.
В одном из романов Макбейна “87-й участок” (1989) у мужчины был роман со своей убитой няней, которой было 16 лет. Копы ненавидят его за это, называя это "похищение колыбели". Его считают лишь немногим выше педофила, “который выкопал Мэри Джейн, туфли и белые хлопчатобумажные трусики” (стр. 267ff). Мужчина, однако, настаивает на своей истинной любви к ней, но ее образ в начале романа подчеркивает похоть в отношениях:
Тлеющие зеленые глаза, несколько капризный рот с полными губами, вулканически-рыжие волосы, извергающаяся лава, горячий поток. Короткая зеленая юбка, открывающая длинные, красивые ноги и стройные лодыжки, туфли на французском каблуке, короткие каблучки, подчеркивающие изгиб ноги и выпирающие бедра, ее ягодицы и грудь, обнаженные под тонкой хлопчатобумажной рубашкой, соски сморщились, хотя на улице было не холодно. (стр. 269)
Этот описательный язык обычно приберегается для взрослых, а не для подростков, но здесь он отражает обиду на неуместные возрастные различия. Она была сексуально осведомлена и опытна, и была соблазнительна с мужчиной постарше. Как и большинство фигур опасной маргинальности, она умирает ужасной смертью в качестве заслуженного наказания. A 17 летняя женщина, у которой роман с мужчиной постарше, движимая иррациональной похотью, в Девоне (1990) погибает, когда мужчина взрывает свою машину, думая, что его жена была бы в этом замешана. 8-летняя “нимфетка” из "Дела Люси" Сандерс Бендинг точно так же убит в конце книги:
Он ворвался к ним с ревом, застрявшим в горле. Увидел, как коренастый мужчина скорчился и кряхтит. Увидел золотую девушку, стоящую на коленях у него между ног....[Он] наставил на них револьвер. Разрядил его в них. Увидел, как они дернулись и брызги. (1982:405)
В конце 1980-х годов некоторые авторы предложили объяснения того, почему дети сексуальны, особенно в отношениях между взрослыми и молодежью. Они верили, что однажды обманутые занимаясь сексом, молодые люди теряют контроль и пробуют все виды действий (Дженнингс 1987: 747, 763). У Ваксса есть подробный отчет социального работника. Они должны спасать детей, иначе некоторые из них никогда бы не вырвались из “клетки” травм и сексуальности, говорит она. Они могут принимать наркотики или пытаться покончить с собой, или, что еще хуже, “отдаться” сексуальным желаниям: “Если разбудить их слишком рано, они выходят из-под контроля, и дети сами ищут секса” (1987:107; 182, 217), Келлерман (1986) изображает женщину, которая “гиперсексуальна”, корни которой, как говорят, кроются в ее прошлом жертвы жестокого обращения инцесте.[26]
В книге Брэндона герой-прокурор встречает 5-летнюю девочку, которая “была ужасно кокетлива, стояла так близко, что я чувствовал тепло ее кожи, и улыбалась мне с выражением, которое было бы уместно только на лице старой шлюхи” (1993:89). Психиатр говорит, что у девочки не “фаза”, и она не узнала об этом из телевизора. Желание - это только прикрытие. Эксперт говорит: “Она не получает удовольствия от того, как она себя ведет. На самом деле она не пытается вас соблазнить... Она была бы в ужасе, если бы вы прикоснулись к ней интимно”. Психиатр говорит, что дети “не знают о существовании секса, пока [растлитель] не познакомит их с ним. И они ненавидят эту его часть. Это пугает их; это разрушает их” (стр. 93ff). Позже она утверждает, что, “Ребенок ненавидит то, что с ним сделали, но любит растлителя” (стр. 230). Как только дети занялись сексом, “отныне они сексуальные существа. Они не собираются забывать то, что знают. Они познакомились с миром знаний взрослых задолго до того, как смогли с этим справиться”, - продолжает эксперт. Эти знания “отличают их от других детей. После этого им очень трудно адаптироваться в школе, или найти друзей своего возраста. У них есть этот грязный секрет, который, как они думают, все видят по их лицам” (стр. 93). Мальчик никому не мог рассказать о своем сексе с мужчиной - потому что это “показало бы всем, насколько он отличался от других, каким грязным маленьким мальчиком он был” (стр. 234).
Немало усилий как в фактах, так и в художественной литературе было потрачено либо на объяснение сексуальной активности молодежи, либо на ее прямое отрицание. Один из испытуемых О'Брайена рассказал о сексуально напористой 10-летней девочке, которая попросила его заняться сексом. О'Брайен возразил: “Это нереалистичное мышление. Дети не хотят заниматься сексом” (1986:90) — но затем она сказала, что если взрослый “преждевременно стимулирует” детей, они могут проявить “любопытство” и начать “исследование”. Другой испытуемый сказал, что все его отношения были с мальчиками-подростками, которые “знали, во что ввязываются, и хотели этого”. О'Брайен разволновался еще больше и заявил, что “Молодые мужчины-подростки не могут читать между строк, чтобы знать, что произойдет, им не нравится спать раздетыми с 45-летними мужчинами и они не хотят заниматься с ними сексом, если их не принуждают, не запугивают или не подкупают...”, стр. 153, курсив в оригинале). Эти убеждения все еще высказывались в качестве фактов более десяти лет спустя. В отчетах о расследовании (10 марта 1995 г.) мужчина, который был заключен в тюрьму за секс с подростками, сказал, что он всегда может рассказать! если бы молодые люди “хотели сделать больше, чем просто пообщаться. Терапевт Боб Прист был возмущен. Он сказал, что именно так педофилы “оправдывают” свои действия, но “мы знаем лучше. ... Ребенок не знает, что такое секс”. Педофилы говорят, что они ощущают сексуальное влечение у подростков, но он яростно (и довольно комично) воскликнул: “Это полная ложь!'
IV
В конце 1980-х и в начале 1990-х демоническое дитя вновь проявило свои сексуальные элементы. В "Преданном" Невинная, “зрелая для своего возраста” несовершеннолетняя соблазняет мужчину, которого затем обвиняют в растлении по закону. В книге Уиллефорда есть случайная девятилетняя девочка, которая продает свои поцелуи за пенни и берет шесть центов “за взгляд” (1987: 24ff). У нее есть некоторые демонические элементы десятилетиями ранее, и в "Трех сериях" она вовлекает одного из персонажей в отвратительные поступки, не связанные с сексом между молодежью и взрослыми. В упоминании взрослых, у которых были — или не были - проблемы, чувствуется пренебрежение и безразличие заниматься с ней сексом; персонаж очень хорошо вписывается в те социальные ландшафты, которыми славился Уиллфорд. Бывшая детская звезда Дрю Бэрримор сыграла то, что было описано в рекламе как “смертоносная” или “коварная” Лолита в фильме "Ядовитый плющ" (рис. 2.1), хотя ее героиня, ученица младшей или старшей школы, была старше обычной Лолиты.[27]
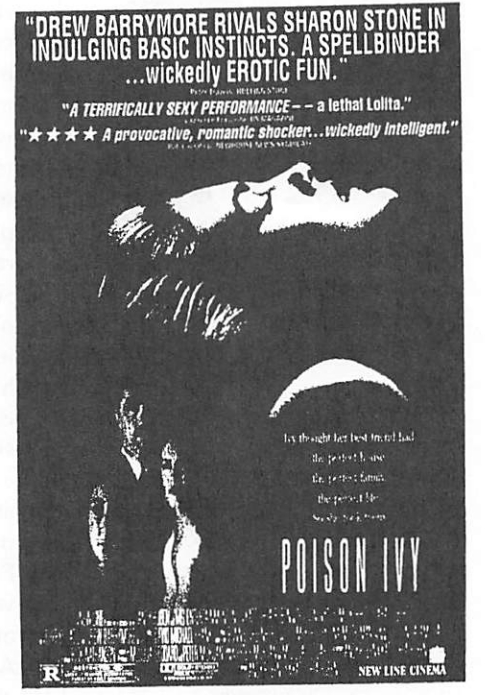 Рисунок 2.1 Газетная реклама Ядовитого плюща (1992)
Рисунок 2.1 Газетная реклама Ядовитого плюща (1992)
Очень интересным примером в начале 1990-х годов была Эми Фишер. Для учреждений культуры и развлечений это был один из их лучших периодов. Сначала этот случай характеризовался как пример “рокового влечения”, заимствованный из названия фильма 1987 года, в котором женщина становится одержимой идеей убийства из-за мужчины, с которым у нее был короткий роман. Дело Фишер последовало сразу за Нью-йоркским убийством с похожим сюжетом, и журналисты раскрутили его как случай “подросткового влечения”. Но эмоциональная и финансовая привлекательность ее юности и ее сексуальные связи плюс доступность жизнеспособных клише оказались непреодолимыми для артистов эстрады, так что Кейс и Эми Фишер стали всемирно известны как “Смертоносная Лолита”. То, что она никого не убивала, не имело большого значения; лейбл был единственным способом выразить концепцию и последствия сексуальной молодости, образы, основанные на страхе взрослых, неправильном восприятии, маркетинговых амбициях и возбуждении.
Фишер характеризовалась как архетип демонической Лолиты (Henry 1992, Mathews 1992); Эфтимиадес был уверен, что она застрелила жену Джоуи Буттафиоко, “чтобы изгнать демонов из своей души” (1992:108). Демоны, конечно же, были сексуальными. Знаменитое высказывание Фишер “Мне нравится секс” стало худшим кошмаром моралиста и воплощением эротической мечты шоумена.[28] Говорят, что после ареста Фишер жаловалась на отсутствие секса и надеялась, что инцидент принесет ей достаточно денег, чтобы купить быструю машину.[29] Женщину завалили предложениями сняться в кино, и в течение месяца появились три телефильмаза неделю друг за другом.[30] Буттафиоко в конце концов признал себя виновным по обвинению в растлении по закону, и в конце 1993 года был приговорен к шести месяцам тюремного заключения, штрафу в размере 5000 долларов и пяти годам условно, что намного меньше, чем приговоры, вынесенные другим лицам, вступившим в половую связь по обоюдному согласию, особенно геям аналогичного возраста.
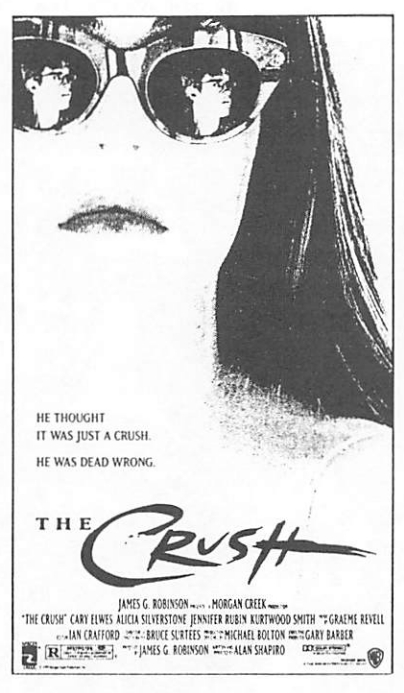 Рисунок 2.2 Газетная реклама The Crush (1993)
Рисунок 2.2 Газетная реклама The Crush (1993)
Дело, естественно, распространилось на другие СМИ. Эпизод программы USA network. “Шелковые преследования” ("Детские штучки", 27 февраля 1993) показал почти дословное воспроизведение сюжета Фишер в первых эпизодах. The Crush (выпущен Апрель 1993) объединил элементы классический Лолиты с женской одержимостью (рис. 2.2 & 2.3).[31]
 Рисунок 2.3 Классическая реклама "Лолиты" из газеты 1962 года
Рисунок 2.3 Классическая реклама "Лолиты" из газеты 1962 года
В начале 1993 года Saturday Night Live выпустила целое шоу сатирических фрагментов на темы Фишер. Этот случай фигурировал в программах стендап-комиков, ситкомах, ведущих ток-шоу и даже в музыкальном клипе Марвина Розенберга “The Joey Песня Буттафиоко”, показанная несколько раз в середине 1993 года на канале Comedy Channel: “Лучше бы я никогда не слышал об Эми Фишер...! Мне все равно, куда он ее увез... Кого волновало это дело? Продюсеры и журналисты, у которых был свой собственный образ потребителей. Пит Симмонс, старший продюсер таблоидного шоу. Теперь эта история, была процитирована как высказывание: “...кому какое дело до Эми Фишер? Ну, маленьким немытым телезрителям с глазами-бусинками не все равно” (Брэдфорд 1993:69). Находясь в тюрьме, она продолжала оставаться объектом пристального внимания прессы и телерадиовещания на протяжении всего 1993; Буттафиоко время от времени появлялась в новостях и была широко осмеяна.
Одним из интересных аспектов эволюции характера демонической Лолиты была Маленькая Рыжая Шапочка для верховой езды. Первоначально представленная как невинная девушка, которой угрожает (у постели больного) пускающий слюни волк, но которую спас красивый лесной житель, вариации объединили сказку с современным сценарием. В версии Картера Рэд спит с волком.[32] Даль возвращает Рэд к несколько более традиционной ситуации, но с изюминкой; волк заигрывает с ней,
Маленькая девочка улыбается, одно веко подрагивает. Она достает пистолет из своих трусиков.
Она стреляет в волка и шьет шубу из его меха.[33] С возобновлением интереса к сатанинским культам детям снова были отведены сексуальные роли, хотя и не присущие их разуму или телу. Теперь можно было иметь невинных демонических сексуальных детей. Макбейн изобразил культовый ритуал, в котором используются восеми годовалые дети, предлагая несколько приятных контрастных изображений.
Высоким писклявым голосом маленький мальчик сказал: “Смотрите! Мой посох стоит прямо!” и приподнял тунику, чтобы показать свой маленький вялый пенис. И маленькая девочка ответила: “Смотрите! Мой фрукт истекает нектаром!” и приподняла тунику, чтобы показать свой маленький безволосый половой орган. (1990:151)
В некоторых из того, что называлось “новым ужасом” или “сплаттерпанком”, демонический сексуальный ребенок использовался с особым эффектом. Здесь акцент делался на явных описаниях отвратительного и шокирующего. Одним из ранних примеров является рассказ Ланн (1986), в котором рассказывалось о 15-летней девочке, которая наслаждается сексом с трупом своего отца, с намеком на то, что ее вкусы проистекают из жестоких кровосмешающих отношений, когда отец был жив. Шокирующая для многих (как и положено по жанру) тематика - винтажная готика 18 века, и история, возможно, была бы более печальной, если бы возраст женщины был моложе, поскольку многие не считают пятнадцатилетнюю девушку ни ребенком, ни бесполой.
V
Начиная с начала 1980-х годов активисты выступали против сексуальной активности молодежи и принимали законы, ограничивающие ее и наказывающие за нее. Такие кампании были частью правых и популистские религиозные выступления против удовольствий и нонконформизма, которые были характерны для периода с середины 1970-х по 1990-е годы. Был проведен ряд широкомасштабных и энергичных кампаний, в основном религиозных, но со многими светскими объединениями, чтобы попытаться контролировать материалы для чтения, доступные молодым людям. Родители из Нью-Джерси хотели, чтобы Джейкоб Патерсон “Я любила" (1980) была исключена из 6-го класса, потому что, по мнению одного из родителей, героиня книги, которой, как полагают, было 13 лет, "испытывала вожделение к мужчине постарше, идея, которую я нахожу отвратительной”. Школьный совет решил оставить книгу Newberry, удостоенную премии, в библиотеке, но посчитал, что ученикам потребуется “серьезное руководство” при ее чтении.[34]
В 1981 году был принят закон о семейной жизни подростков, известный в народе как “Целомудрие”, Законопроект первоначально продвигался членами религиозных и политических ультраправых (такими как Джереми Дентон [республиканец от штата Алабама] и Оррин Хэтч [республиканец от штата Юта]), но либералы (такие как Эдвард Кеннеди [демократ от штата Массачусетс]) вскоре присоединились к его поддержке. Интересным аспектом законопроекта было закрепление в качестве закона определения “беспорядочных половых связей” как любого секса вне брака. Якобы рекламируемый для пресечения добрачной беременности, законопроект требовал уведомления родителей подростков, обращающихся за информацией о контроле над рождаемостью, и ограничивал упоминание аборта как варианта. Заместитель помощника госсекретаря по вопросам народонаселения в Министерстве здравоохранения и социальных служб Марджори Мекленбург была наиболее заметным представителем этой кампании, несмотря на то, что, как говорили, она была сексуально активна и беременна до своего замужества (Anonymous 1983f). Министр здравоохранения и социальных служб Ричард Швейкер также решил уведомить родители лиц в возрасте до 18 лет, что молодежь искала информацию о контрацепции. Вопросы конфиденциальности были отодвинуты на второй план в пользу выявления, информирования и наказания сексуально активной молодежи.
Благодаря такой деятельности подавление информации было жестким. CBS, NBC и ABC отклонили публичные объявления о контроле над рождаемостью для молодежи, потому что, по словам исполнительного директора CBS Джорджа Швайзера, “контрацепция является неприемлемой темой для публичных объявлений”. Объявления были показаны по телерадиовещательной сети Turner в некоторых ее кабельных сетях в начале 1985 года и в конце 1985 года, онако после некоторого возмущения либералов NBC разрешила показ ролика в эфире, но ссылки на контрацепцию были удалены. Реклама презервативов не выходила в эфир до конца 1991 года на телеканале Fox, и стала выходить, то только в том случае, если они были представлены как средство профилактики СПИДа, а не как противозачаточное средство. В 1992 году Управление по управлению персоналом убрало раздел о контрацепции из правительственного руководства по сексуальному воспитанию детей, поскольку Курт Смит из этого агентства почувствовал себя оскорбленным идеей о том, что молодежь может быть сексуально активной, и обеспокоился тем, что предотвращение беременности может только поощрять это; “Я чувствовал, что лучше всего было бы промолчать”, - сказал он (Хилтс, 1992).
В тот период появилось много таких активистов, и почти все они получили некритическую оценку средств массовой информации. Социолог Рэй Шорт представил на слушаниях в Сенате доказательства, предположительно указывающие на то, что люди, имевшие добрачный секс, с большей вероятностью имели нестабильные добрачные отношения, с меньшей вероятностью имели “успешные” (т.е. продолжительные) браки, с большей вероятностью имели внебрачные связи, с большей вероятностью заболевали, с большей вероятностью беременели из состоящих в браке, более склонны испытывать чувство вины или страха и имеют более низкую самооценку. Шорт считал сохранение девственности как для мужчин, так и для женщин “вопросом национального выживания” (Short 1982, Noble 1982). Другим человеком, получившим много внимания в прессе, был Сол Гордон, получивший в 1982 году награду от Американской ассоциации секс-педагогов, консультантов и терапевтов. Профессор Гордон сказал, что “секс опасен для здоровья мальчиков и девочек”, добавив, что, к удивлению, он не смог “придумать ни одной веской причины для подростков заниматься сексом. Гордон утверждал, что он полностью за доступ к информации о сексуальности — но, по-видимому, только о том, что заставило молодежь сказать "Нет". Согласно сообщениям прессы, он сказал, что юношеский секс приведет к “эмоциональному и психологическому краху”, который неизбежно проявится позже в жизни (McCormack 1982a, 1982b, 1982c, 1982d). Для многих в тот период эта простодушная концепция молодежного секса служила удобным всеобъемлющим средством объяснения личных и социальных проблем. Попытки гуманизировать существующие законы наталкивались на яростное сопротивление. Одно из наиболее широко освещаемых событий произошло в середине 1981 года в Вашингтоне, округ Колумбия, в связи с предложенной “декриминализацией” секса среди молодежи. Комитет городского совета долго и нудно размышлял о том, кто может, а кто не может заниматься сексом. Законопроект легализовал бы секс между молодыми людьми по обоюдному согласию, ”когда один ненамного старше другого". Это означало, что лицам в возрасте 12 лет и старше разрешалось заниматься сексом до тех пор, пока их партнер не был старше на четыре года. Законопроект также разрешал секс между лицами младше 12 лет при условии, что разница в возрасте между ними не превышала двух лет. Законопроект не легализовал сексуальные отношения взрослых с несовершеннолетними; секс между 11-летним и 13-летним подростком рассматривался как преступный (Ричбург 1981a, 1981b, 1981c, 1981d, 1981e). Это предложение воспламенило граждан. Был предложен “компромисс”, согласно которому секс с любым лицом в возрасте 12 лет или младше будет караться тюремным заключением на двадцать лет, а секс с подростками в возрасте от 13 до 16 лет - тюремным заключением на многие годы. В качестве еще одной “уступки” член Совета Дэвид Кларк сказал: “Мы пытаемся найти способ обеспечить, чтобы сексуальное поведение несовершеннолетних друг с другом было незаконным... но чтобы они не подвергались тюремному заключению”. Наконец, на заседании, где зрители неоднократно кричали “Безнравственность!”, где христианский автор раздавал экземпляры своей брошюры законопроект, озаглавленный “Неправильность внебрачного секса по обоюдному согласию” и в котором съемочная группа Christian Broadcasting Network снимала “углубленный” сериал о детской порнографии, был окончательно лишен любых положений, которые декриминализировали бы секс для молодежи. Десятилетие спустя была принята аналогичная мера, внесенная в законодательное собрание штата Вашингтон Джеймсом Уэстом (R), которая криминализировала бы секс между лицами моложе 18 лет; это пропагандировалось как средство профилактики СПИДа (Elson 1991).
Современные секс-педагоги теперь должны советовать молодежи их правовые границы и риски, которым подвергаются мужчины, попадающие в списки сексуальных преступников, если они будут осуждены в соответствии с законами, разработанными для применения к педофилам, здесь используются еще один инструмент для прекращения сексуальной активности молодежи (Craig 1994). Многие другие пропагандировали то, что, по их мнению, было правильным и “ответственным” поведением. Филлис Шлафли распространила свою антисексуальную брошюру Eagle Form 1982 года среди учащихся младших классов средней школы, в которой предостерегала читателей: “НЕ общайтесь с товарищами, которые верят в "сексуальное освобождение" и практикуют его. Они могут быть носителями герпеса...”, и “НЕ консультируйтесь с клиниками или консультантами, которые ложно сказали вам, что секс - это нормально. До тех пор, пока вы пользуетесь контрацептивами. Они солгали вам!” Частное лицо Люсиль Дженисс считала, что большая белая кнопка с большим черным “НЕТ” на ней поможет “остановить волну подростковой сексуальной активности”, по словам представителя агентства по планированию семьи; она также распространяла брошюры среди подростков и дошкольников с помощью местных школьных чиновников и журналистов (Bentley 1982).
В течение следующего десятилетия опасения оставались активными, но поводом для тревоги стало меньше из-за открытого морального негодования и больше из-за страха заражения болезнью — хотя эти рассуждения всегда были связаны. В конце 1992 года американская медицинская Ассоциация опубликовала свои руководящие принципы для служб профилактики среди подростков, направленные на борьбу с предполагаемым “кризисом здоровья” среди подростков. Для лиц в возрасте от 11 до 21 года в докладе рекомендовались скрининги под видом “медосмотра” на употребление табака, алкоголя и наркотиков, а также на сексуальную активность, поощряя тестирование на ВИЧ-инфекцию. В конце 1994 года, когда главный хирург Джойселин Элдерс предложила эту информацию о мастурбации быть зачисленной на курсы полового воспитания, демократическая администрация немедленно вынудила ее уйти в отставку под вопли консерваторов и многих либералов.[35] Исследование 1988 года было обнародовано в 1992 году, и в нем говорилось, что, хотя процент сексуально активных женщин-подростков снизился с 1971 года, число женщин-подростков, имевших секс более чем с четырьмя партнерами, удвоилось. Опасения заключались в том, что возраст для первого полового акта неуклонно и быстро снижался.[36] Маккой процитировал исследование 1986 года "Планируемое родительство", которое якобы показало, что 1% 12-летних мужчины и 4% 12-летних женщин были сексуально активны, и этот процент увеличивался с возрастом. Она пришла к выводу, что “вызывающий беспокойство процент детей в возрасте до 14 лет экспериментируют с сексом”.[37] Маккой перечислил обычные опасности для подростков, занимающихся сексом: беременность, рак шейки матки и (по словам неназванных “экспертов по психическому здоровью”) “потеря детской невинности, [которая] может нарушить нормальный процесс, постепенного самопознания и социального роста”. Обычные стигматы также предлагались в качестве “предупреждающих знаков”: "незнание пола и контроля над рождаемостью - это один признак, но другой, что этим “уязвимым” детям “позволяют расти слишком быстро”. Они раньше начинают встречаться, ходят на вечеринки без присмотра, экспериментируют с наркотиками и алкоголем (верный признак сексуально активных женщин) проводят время с мужчинами постарше. Маккой цитирует Чарльз Виббельсман, доктора медицинских наук, руководителя подростковой клиники в Сан-Франциско. Медицинский центр Кайзер Перманенто, который сказал, что молодым женщинам “неразумно” посещать пожилых мужчин. Мужчина “обычно запугивает, уговаривает или принуждает девочку заняться сексом. И ей это не нравится. Я ни разу не слышал, чтобы юнная девушка могла наслаждалась половым актом”. В статье сексуально активный подросток изображен человеком с низкой самооценкой, социально изолированным, погруженным в бурную семейную жизнь, использующим секс для “отыгрывания” и имеющим “нереалистичные мечты”.
Одними из самых проблемных отношений в тот период были отношения девушек-подростков с любовниками постарше. Как и большинство романов между подростками и мужчинами постарше, в этих отношениях нет ничего необычного, некоторые из них очень краткие, другие довольно продолжительные (некоторые партнеры поддерживают контакт еще долго после прекращения секса); многие, если не большинство, по-видимому, были взаимно желанными (Thompson 1995 позволяет молодым женщинам говорить о своем влечении к мужчинам старшего возраста). В некоторых штатах разрешены браки для женщин в возрасте 15 лет (или младше), но запрещен внебрачный секс; в других возраст согласия установлен равным 15.
Одной из концепций проблемы был "Комплекс Лолиты" Трейнера. Книга написана в форме “отчета” с использованием ряда “шокирующих” и “внушающих страх” историй болезни, пытающихся подражать предполагаемой серьезности, достоинству и авторитету психиатрии 1950-х годов. Представляя собой “темный уголок, разделяемый с тенями многих сексуальных отклонений”, он не хочет ”осуждать, оправдывать или делать сенсацию“, а только исследовать тех, кто ”попал в шторм“ ”лолитаизма“ и ”скромности". (1966:12, 34). Предвосхищая настойчивость Джудианн Денсен-Гербер, Трейнер пресек любые попытки этического или эмпирического исследования, заявив, что “комплекс Лолиты - это не философия и не предмет для интеллектуальных дебатов. Это касается секса — сексуальной проблемы — и ее нельзя представить иначе, как в ее грубости” (стр. 309). То, о чем он хочет предупредить, - это не педофилия, а “постоянно растущая” “пугающий рост лолитаизма” (стр. 39, 59, 267). Его внимание сосредоточено на гетеросексуальных отношениях мужчины и девочки с женщинами примерно в период полового созревания (от 12 до 15 лет), хотя сообщается о нескольких отношениях женщины и мальчика, одну такую женщину называют “вулканом похоти” (стр. 103).
“Гумберты” бывают всех мастей, только некоторые из них по его классификации являются педофилами. Большинство из них сексуально импотентны и социально некомпетентны со взрослыми. Их привлекает “девственность”, а следовательно, и подростки. Психиатр Милтон Окун полагал, что это указывает на “латентную гомосексуальность” (стр. 118f, концепция, выдвинутая психиатры до начала 1970-х). “Гумбертов” привлекает работа в школе точно так же, “как гомосексуалистов привлекает индустрия женской одежды” (стр. 154). В то время как некоторые “гумберты” действительно убивают (соответствующие истории болезни приведены для удовольствия читателя), большинство этого не делают, потому что они заинтересованы в сексе с молодыми женщинами и, что наиболее печально для Трейнера, часто влюбляются в них. Тренер признавал счастливые и взаимовыгодные отношения, но называл их “ненормальными” или “неестественными". Он привел рассказы мужчин о своих эмоциональных связях со своими младшими партнерами, но они отвергаются просто как “причитания влюбленных, бормотание сумасшедших, плач больных...”; ”Гумберты“становятся "зависимыми” от лолитаизма (стр. 149, 88).
Тренер подробно описал, как молодые женщины вступали в связь с мужчинами постарше, начиная от изнасилований и заканчивая сексуальной агрессивностью самих женщин. Последнее чаще фигурируют, поскольку “Лолита” по определению является сексуально озабоченной личностью (он рассказывает нам о 12-летней девочке, которая “закрутилась и закрылась от своего возраста Ритм Гумберта”, стр. 88). Трейнер описал отношения значительной сложности и продолжительности, в которых жизнь прекрасно имитировала искусство. После того, как начался роман между 15-летней девушкой (которая уже несколько лет была сексуально активна) и 41-летним мужчиной, они вместе читали "Лолиту". Раздраженный Трейнер сказал, что у них “извращенная идентификация” с персонажами, они сразу узнали себя в романе. Им понравилась книга, они называли друг друга “Гумберт” и “Ло” и купили солнцезащитные очки в форме сердца, похожие на те, что носят в романе. Автор: Сью Лайон в рекламе фильма. Тренер был сбит с толку тем, что такие отношения случаются, и в пугающем количестве случаев у участников отсутствуют чувство вины и травма.
Но он был абсолютно уверен, что контакты нанесли вред младшему партнеру. Трудно сказать, что на самом деле происходило в отношениях между взрослыми и молодежью, и Трейнер признал, что “искажения распространены” в показаниях детей о сексуальных контактах со взрослыми (стр. 74); чтобы добавить неопределенности, он сообщил о жестоком допросе ребенка в полицейском участке (стр. 143f). Как и Мартин и Хаддад, Трейнер задал родителям вопрос, который должен быть одновременно драматичным и изобличающим: “Ласкал ли моего нежного ребенка мужчина, который бьется в конвульсиях в сексуальной реакция на свое тело? Будет ли этот опыт когда-нибудь вспоминаться в кабинете психиатра, когда она расскажет о мучающих ее эмоциональных проблемах?” (стр. 82). В конечном счете тренер почувствовал, что последствия были необратимы для молодой женщины и для общества. Хотя он допускал некоторые исключения, большинство женщин заканчивают плохо: становятся проститутками, проходят терапию, подвергаются “суровым дисциплинарным взысканиям” (стр. 240), попадают в тюрьму, имеют внебрачные беременности и аборты или их убивают.
Эксперты подкрепили его мнение о том, что “семена лолитаизма посеяны с помощью разрушенной семейной жизни” (стр. 43). Другими факторами, способствующими формированию сексуально активной молодежи, являются реклама и сообщения сексуального характера в средствах массовой информации. Трейнер в конечном счете использовал патриархальную психиатрию, чтобы объяснить лолитаизм: безотцовщина, соблазнительная/вседозволяющая мать, “эдиповы стремления” и “не слишком редкое… желание изнасилования” (стр. 233). Дополнительные факторы включали “феномен постоянных свиданий” и зловещий “поиск равенства” среди девушек, основным следствием которого стало то, что они ”опустились до мужских стандартов сексуальной раскованности" (стр. 304). Трейнер и его эксперты были пессимистично настроены по поводу того, что смогу остановить распространение лолитаизма “среди массовости и растерянности нашего времени” (стр. 306). Цитируя неназванного социального работника суда по делам несовершеннолетних, он написал: “это знаменует начало какого-то ужасного конца для всех нас” (стр. 303, 59). Он опасался, что лолитаизм является частью тенденции “к большей свободе, раскованности, большей частоте и большей порочной необузданности” (стр. 300). Психиатрия не может помочь, потому что ресурсов слишком мало; законы направлены на сексуальную реформу, отчасти благодаря “гомосексуалистскому лобби”, но новые законы на самом деле не нужны и не “охладят влечение лолит и Гумбертов друг к другу” (стр. 307).
Стайн (1985) был также обеспокоен тем, что “мужчины среднего возраста обычно имеют девочек-подростков в качестве своих подружек”. Подростки работают в паре с мужчинами в возрасте от 30 до 50 лет, и приводится пример “Трейси” (16) и “Стива” (44). Стайн сказал, что это не включало в себя предложение конфет “своенравным” женщинам, а также любовниц и обмен деньгами (хотя яркие подарки были изображены как важные). Стайн предложил обычные банальности для описания и объяснения “феномена”, хотя он справедливо высмеял психическую болтовню психиатров Пола Хаймана и Роберта Столлера. Интересно, что он считал, что отношения были основаны также на “устранении любой четкой границы между фантазией и реальностью здесь, в Калифорнии, и в Америке в целом”.
В конце 1995 года проблема вновь всплыла на поверхность, в результате чего опасения по поводу подростковой беременности и сексуальной активности молодежи оказались в концептуальных рамках, установленных паникой по поводу жестокого обращения. Институт Алана Гутмахера опубликовал отчет об опросе матерей от 15 до 49 лет; журналисты набросились на разделы, посвященные матерям-подросткам. В отчете указано, что около половины матерей в возрасте 15-17 лет имели детей от мужчин в возрасте 20 лет и старше. Наблюдатели начали называть это “сексуальным насилием” (Steinhauer 1995) и отметили, что большинство законов запрещают подросткам в возрасте до 16 или 17 лет давать согласие на секс. В новостных сообщениях не упоминалось, сколько из этих молодых женщин состояли в законном браке, или степень разницы в возрасте, и автоматически классифицировалось как жертвы, которые пострадали эмоционально и экономически уязвимы (Шапиро, 1995). Большинство призывало к гневу “жесткой системы уголовного правосудия, которая заставит отморозков-взрослых мужчин дорого заплатить за свои сексуальные забавы и игры с эксплуатацией” (Стинсон, 1995). К середине 1990-х годов те, кто проявлял сексуальный интерес к девушкам-подросткам, были заклеймены и преследовались по закону как педофилы и “сексуальные хищники”, хотя геи с самого начала подвергались такому же наказанию.
Одно из наиболее интересных проявлений истерической реакции на сексуального ребенка можно найти в колонках советов в газетах. Письма могут быть настоящими, а могут и не быть, но темы предоставляют отличные возможности для подтверждения определенных ценностей тщательно отобранным консультантом через официальные средства массовой информации. 19-летний подросток написал доктору Уоллесу (1982a) и сказал, что его девушка была “очень зрелой 12-летней девушкой”. Отец молодой женщины угрожал парню-латиноамериканцу, но мать одобрила их отношения. Уоллес ответил, что “независимо от ее зрелости и утонченности, она слишком молода, чтобы встречаться с вами”; он отверг расизм, обнаруженный молодым человеком, и проигнорировал взаимные отношения и благословение матери. Позже в тот же период на письмо “Энн Ландерс” (1992a) о молодой паре, более близкой по возрасту, последовал более сдержанный, но все еще уклончивый ответ. Напуганная в Мичигане” сказала, что ее 15-летний сын был влюблен и имел сексуальную связь с 13-летней молодой девочкой. Она не запрещала ему видеться с ней и на самом деле боялась рассказать матери девочки, опасаясь, что ее сына арестуют и обвинят в сексуальном преступлении. “Энн” подумала, что была права, не разделяя этих двоих, но только потому, что они видели бы в своих родителях врагов, и добавила, зловеще: “как только подростки начинают заниматься сексом и думают, что они влюблены, они уже не собираются останавливаться.” Она не считала молодого человека очень стабильным (он не собирался останавливаться, угрожал самоубийством, если их разлучат) и предложила консультацию. “Энн” также почувствовала, что сыну следует напомнить, что девочка несовершеннолетняя, и у него “могут быть серьезные проблемы с законом”.
Интересное письмо “Дорогой Эбби” было от мужчины, который сексуально ласкал 10-летнюю девочку во время полета на самолете. “В ужасе я повернулся на бок и принял позу эмбриона”, - написал он. Он задавался вопросом, кто бы поверил его истории и сколько мужчин были “несправедливо” обвинены в растлении малолетних, подписавшись “Преследуемый”. “Эбби” сказала, что ему следовало сообщить ее родителям, “потому что ей нужна консультация, прежде чем она попадет в беду сама — и, возможно, какой—нибудь другой мужчина”. “Эбби” добавила, что любой взрослый “должен взять на себя полную ответственность” за любые сексуальные отношения, независимо от того, кто их инициирует (Ван Бюрен, 1988). 16-летняя девушка написала, что она знала “много” женщин ее возраста, которые были сексуально вовлечены со своими сверстниками в однополые отношения; такие отношения были ”очень шикарны“. Молодая женщина спросила, неправильно ли ”для девушек, которые нравятся друг другу, выражать свои чувства сексуально“; у нее не было таких отношений, но добавила, что подруга предложила это, и этого не было "не потому, что я не могла”. Обозреватель полностью проигнорировал это замечание и предположил, что молодая женщина была и должна быть строго гетеросексуальной, сказав: “Я не думаю, что это способствует будущему гетеросексуальному удовольствию или компетентности человека, если он сначала практиковал однополый секс”. Обозреватель критиковал то, что он делает что-либо просто потому, что это “модно”, но полностью отрицал возможность сексуальной дружбы, советуя молодой женщине отказываться от приглашений ее подруги (Уиншип, 1982).
Одна мать написала, что бойфренду ее дочери (обоим по 14 лет) нравилось связывать дочь. Хотя он обращается с ней “очень мягко”, ему удается обеспечить ее “некоторыми очень жесткими позициями”, сказала она. Молодые люди открыто рассказывали о своем “хобби” (как назвала это мать) и часами изобретали новые позиции. Семьи обоих лиц знали об их интересе, и мать молодого человека чувствовала “это просто их способ развлечься”. Мать дочери, “пораженная тем, как много способов связать человека”, позволила мальчику связать ее: “Я нашла это захватывающим ощущением". “Энн Ландерс” (1982) была возмущена и напугана. С этим “предвестником извращенного секса”, - предупредила она, - “ваша дочь и ее бойфренд вскоре займутся довольно серьезными вещами”. “Энн” показалось странным, что родители знали и что автор письма принимал в этом участие. Она призвала к немедленному консультированию всех заинтересованных лиц.
В колонках с советами по-прежнему звучат опасения по поводу сексуальной активности молодежи, но особенно тревожными были сообщения о сексуально напористых молодых женщинах. Родители из Техаса написали “Энн Ландерс”, что их 13-летний сын получал приглашения на секс от женщин своего возраста и ходил на вечеринки, где они были одеты только в тоги. Они опасались за чистоту своего сына и попросили совета о том, как “отбить охоту у агрессивных девочек”. “Энн” посоветовала им проинформировать других родителей и рассказать своему сыну о “физических, эмоциональных, социальных и экономических последствиях” секса. Она была благодарна за эту новость, но была опечалена, сообщив миру, что 13-летние и 14-летние подростки действительно, могут заниматься сексом.[38] Письмо от “Мамы из Южной Калифорнии” (Ландерс 1991a) выражение тревоги и шока по поводу сексуальной агрессивности молодой женщины вызвало необычайный поток подобных писем (Landers 1991b, 1991c). “Бескомпромиссная мама” написала, что она видела толпы “сексуально-озабоченные девочек” но была равнодушной, пока мать не прочитала письмо мальчика, оставленное для её 14-летней дочери. “Это было откровенно сексуально и шокирующе”, - написала она. “Бескомпромиссная мама” ограничила деятельность своей дочери и намеревалась обратиться за консультацией для неё. “Энн” с готовностью согласилась, но предложила и то, и другое мать и дочь обращаются к психологу, подразумевая, что мать не уделяла должного внимания благополучию своей дочери (Ландерс, 1991d).
Другой автор письма спросил Джойс Бразерс: “Что заставляет 14-летнюю девочку из хорошей семьи вести беспорядочную половую жизнь?” Братья (1992a) подвергли сомнению использование термина “хорошая семья”, но не слова “беспорядочные связи”, подразумевая нечто самоочевидное в этом слове. Она ответила штампами, обычно применяемыми к сексуальной молодежи:
...когда подростки ведут беспорядочную половую жизнь, это происходит потому, что они отчаянно ищут привязанности или каких-то знаков внимания и одобрения, которых нет дома. Беспорядочный секс у подростков обычно является симптомом. ... Беспорядочный секс обычно не приносит подросткам удовлетворения или радости. Это может быть безрадостной попыткой избежать одиночества и чувства отчужденности. Однако при любых обстоятельствах в современном мире это чрезвычайно опасно. Подростку, о котором вы пишете, нужна помощь, пока не стало слишком поздно. Ее саморазрушительное поведение может быть криком о помощи.
Бразерс видела в работе только подрывную деятельность и патологию. Чтобы объяснить еще одного “не по годам развитого” ребенка. Бразерс была уверена, что она была “перевозбуждена”, подвергалась растлению, была свидетельницей сексуальных актов и/или видела порнографию (1993). Она посоветовала матери двух мальчиков, 12 и 14 лет, держаться подальше от 10-летней девочки с плохой репутацией (1992b) и предупредила, что сексуально агрессивный ребенок может быть “опасен” (1993). “Энн Ландерс” продолжала выражать свое негодование. Мать написала, спрашивая совета, как относиться к сексу ее 11-летней дочери с 15-летний парнем. “Энн” говорит женщине, что она не в своем уме, и продолжает:
Начнем с того, что 11-летняя девочка не должна встречаться. Разрешение ей пойти с 15-летним мальчиком кажется мне способствующим совершению правонарушений несовершеннолетним. Вам нужна консультация, и вашей дочери тоже. Ты должна изучить основы ответственного воспитания, и [дочь] нужно научить тому, что вести себя сексуально, пока она не стала зрелой женщиной, морально неправильно и опасно. (1993b)
16-летняя девочка написала в газету, прося совета о своем 44-летнем любовнике, с которым она встречалась с 14 лет. Он был женат, богат, много путешествовал и образован; она сказала, что они хорошо проводят время вместе и у них “прекрасная сексуальная жизнь”. Она знала, что отношения не продлятся долго, но хотела получить совет, как их продлить. Она не хотела встречаться с мальчиками своего возраста, потому что они “кажутся глупыми маленькими детьми”. Обозреватель ответил,
Твой парень ненормальный. ... “Замечательный секс” не имеет к тебе никакого отношения. Твоему другу нравится заниматься сексом с очень молоденькими девушками. Многие растлители малолетних очаровательны, богаты и хорошо образованы. Они знают только то, что нужно сказать, чтобы заманить в ловушку своих жертв.
Она посоветовала автору письма рассказать об этом ее родителям и обратиться в консультационный центр по вопросам жестокого обращения или изнасилования (Кроули, 1993). 13-летняя девочка написала “Энн Ландерс”, что была влюблена в бойфренда своей матери, и они проводили много времени вместе и становились все более нежными и близкими; она призналась, что обманывала его. Затем на занятиях по половому воспитанию она узнала, что он, возможно, “растлевает” ее. Она спросила, является ли это жестоким обращением, “если я поощряла это и нам обоим нравится то, что мы делаем?” Она не хотела, чтобы у него были неприятности, сказав Энн “Он действительно ничего не может с собой поделать, когда я дразню его, и становится сильным, быстро убеждает девочку, что она ни в чем не виновата; ответственность взрослого заключается в том, чтобы сохранять “правильную точку зрения” на отношения. Она подробно описала юридические проблемы, в которые он мог попасть, и потребовала от девушки “Немедленно прекратить это”. Подумав, она добавила: “Это также может разбить сердце твоей матери” (Ландерс 1994а).
В начале 1990-х годов это вызвало более широкую озабоченность, но нарративы остались такими же, какими они были более ста лет. Молодые женщины, кажущиеся сексуально агрессивными, рассматривались как просто требующие внимания, “растерянный и одинокий подросток, ищущий одобрения”, - сказала психолог Калифорнийского университета Гейл Элизабет Уайет. Считалось, что негативное внешнее влияние (давление со стороны сверстников и “шквал откровенных изображений”) и раздробленная семья подавляют естественную скромность молодых женщин. “Энн Ландерс” была привлечена в качестве эксперта, и она указала на суть дела: “Очень многие молодые девушки действительно вышли из-под контроля. Их гормоны бушуют, и за ними не было должного надзора”. Наконец, конечно, одной из главных причин такого “странного” поведения было названо “предыдущее сексуальное насилие” (Yoffee 1991). Опасения по поводу сексуального поведения детей в этот период были быстро учтены судами, в основном из-за постоянного распространения глубоко авторитарных взглядов. Ранние политики продолжали традиции оценки и изображения, которые возлагали ответственность за сексуальное поведение на более молодого человека. Дети, проявлявшие признаки сексуального интереса или активности, реальные или воображаемые, были быстро вовлечены в системы расследования, исправления и наказания. Трое мальчиков в возрасте 11, 12 и 13 лет в школе для глухих в Восточной части Северной Каролины были обнаружены занимающимися сексом вместе. Было подозрение, что действует гомосексуалистская “группировка”, поэтому все трое были допрошены следователями Государственного департамента социального обеспечения. Услуги (с использованием анатомически правильных кукол), родители были уведомлены и проконсультированы, один мальчик был помещен в изолятор почти на год, в штат были добавлены ночные надзиратели для усиления наблюдения, а директор Джерри А. Смит обвинил школу в отсутствии адекватных программ для обучения персонала распознаванию “ненормального сексуального поведения”. Смит писал, что “все учащиеся находятся в группе риска.”[39]
Важным случаем было, полученное обществом уведомление, что 10-летний ребенок девочка и 12-летний мальчик, которые были арестованы за секс друг с другом в Дейд, Штат Флорида. Девочке было предъявлено обвинение в “непристойном поведении”, а молодому человеку - в “нанесении побоев сексуального характера”. Позже обвинения были сняты против пары, но мальчику пришлось согласиться пройти консультацию.[40] И снова во Флориде 4-летний мальчик, предположительно, пытался раздеть восьмилетнюю соседскую девочку, с которой он играл, и “целовать ее по всему телу”. Девочка рассказала своей матери, которая вызвала полицию. Полиция назвала инцидент “простой шалостью”, и отказалась арестовывать мальчика, передав дело государственным социальным работникам (Анонимно, 1988c). Два семилетних мальчика были арестованы за предполагаемое изнасилование пятилетней девочки. Оба мальчика были направлены на консультацию и столкнулись с возможностью того, что их навсегда причислят к “предрасположенным” сексуальным хищникам (Anonymous 1992i).
С момента публикации исследований Кинси в конце 1940-х по конец 1970-х годов существовало относительно благожелательное отношение к сексуальным интересам и деятельности несовершеннолетних. Но по мере роста религиозной и политической реакции в 1980-х годах прежние взгляды и законы стали предметом ожесточенных споров. Один из наиболее известных случаев произошел в 1981 году, когда судья Уильям Рейнеке в Висконсине приговорил 24-летнего мужчину, вступившего в сексуальный контакт с 5-летней девочкой, к условному сроку и исправительным работам. Оценив улики, Рейнеке решил, что девушка была той самой инициаторшой и что мужчина не смог сопротивляться ее домогательствам. Из-за того, что девочка ранее была осведомлена о сексуальной активности и поведении, судья назвал девочку “агрессором” и “необычайно сексуально снисходительной молодой леди”.[41] Мы не можем знать, был ли судья прав или нет, но для оскорбленной общественности этот поступок стал “нападением”, а девочка - “жертвой”. Судья стал объектом кампании отзыва, поддержанной популярными знаменитостями, такими как певица и активистка борьбы с изнасилованиями Конни Фрэнсис. Один человек утверждал, что “у пятилетнего ребенка нет концепции полового акта” (Anonymous, 1982h), взгляд на детей, который должен был оставаться фанатично непоколебимым на протяжении всей истерии.
Сексуальный ребенок имеет привычку появляться вновь, ставя в неловкое положение и расстраивая планы тех, кто хотел бы определять молодежь, ее сексуальность и контролировать их. В 1920-х годах девять младших школьников были пойманы “за написанием записок, в которых чиновники были уверены, что “эти девочки, должно быть, наводят на размышления мальчиков, вступая в беспорядочные сексуальные отношения с мальчиками”, и обвинили их в этом. Девушки отрицали это, поэтому их подвергли тщательному физическому осмотру. Они оказались “нетронутыми".[42] Взрослые еще больше сбиты с толку, когда обнаруживаются группы сексуально активных несовершеннолетних, как это было с Лайндекером (1981), когда он приводил случаи, когда молодые люди формировали свои собственные “секс-кольца". Голдберг и Голдберг (1940) рассказывали о подобных случаях и, подобно современным экспертам, были сбиты с толку сексуальной напористостью. В Вермонте в начале 1980-х годов группа детей в возрасте от 8 до 13 лет, в основном девочек, самостоятельно сформировала “кольцо” для продажи секса взрослым. Однако полиция, стремясь привести дело в соответствие с современной теорией, заявила, что их, вероятно, “заманили” взрослые и подсказали эту идею. Они считали детей “жертвами”, а родители гневно отрицали, что дети были проститутками, утверждая, что “это невинные дети”. Никому из детей не было предъявлено обвинений, хотя взрослые, схваченные полицией, были привлечены к ответственности за сексуальное насилие и непристойное поведение. Молодых людей поместили в терапевтическую машину, “чтобы помочь им справиться с этим травмирующим инцидентом, по словам лейтенанта Джона Берчарда.[43]
Описывая поведенческие сдвиги, происходившие во время Второй мировой войны, Перретт полагал, что большая часть “ошеломляющего роста преступности среди несовершеннолетних” того времени была связана с форма “порока". Молодые женщины, неизвестная доля которых составляла около 12 лет часто посещали места, где собирались военнослужащие, и занимались сексом за деньги и/или как часть дружеского общения и общего веселья. Они стали известны как Victory Girls, Cuddle Bunnies или (более старый термин из 1920-х и 30-х годов) Круглые каблуки. Перретт включил в число своих примеров (1973: 347ff) осуждение 17-летней девушки, которая руководила “преступной группировкой”, состоящей примерно из 30 других женщин в возрасте от 12 до 15 лет, клиентами которой были в основном “мужчины среднего возраста”. В Германии во время Второй мировой войны нацистские кампании по воспитанию нравственности вызывали особую озабоченность молодежи страны. Одним из отвратительных преступлений были сексуальные отношения с иностранцами и военнопленными. 15-летнюю немку приковали к позорному столбу, обрили ей голову, провели по городу с плакатом с надписью “У нас, двух свиноматок, были отношения с военнопленными” и приговорили к 9 месяцам каторжных работ.[44] К 1940 году количество жалоб на женщин и девочек, занимающихся сексом с иностранными мужчинами, настолько возросло, что Геббельс приказал усилить карательную кампанию. Многие из мужчин, иностранные граждане, призванные на работу, были казнены. Френкель цитирует сообщения о “недостойном поведении” в организациях гитлерюгенда, связанных с отношениями с иностранцами. Отчасти это объяснялось воспринимаемой большей сексуальностью иностранцев и “очень выраженной сексуальностью” со стороны “менее уважаемых” женщин.
Прокуроры и судьи приписывали молодежи элементарную невиновность, полагая, что (для старших) они были сексуально неудовлетворены или (для младших) что их соблазнили (стр. 233ff). Сообщений о сексе среди несовершеннолетних поступало в таком количестве, что можно было предположить, что сама национал Социалистическая система образования была “в опасности, Френкель рассказала об одном случае с двумя женщинами, 13 и 14 лет, которые отправились на поиски солдат, чтобы заняться с ними сексом, и цитирует мюнхенский отчет 1942 года о том, как девочки с раннего подросткового возраста “без колебаний” занимались сексом с военнослужащими военной и трудовой службы. После парадов гитлерюгенда молодежь "бродила по темным улицам, ходила на запрещенные фильмы и позволяла коррумпированным взрослым сбивать себя с пути истинного“ (слова Френкеля). Он приводит случаи о подростках дошкольного возраста, занимающихся проституцией, групповым сексом, читающих лекции одноклассникам о контрацепции, участвующих в дискуссиях о том, кто лучше разбирается в сексе (немцы или французы), переезжающих к “каким-то зенитчикам и [тратящих] несколько ночей отрабатывали позиции” и так далее. В нескольких городах появились тревожные сообщения об участившихся половых контактах между солдатами и подростками в возрасте от 10 до 14 лет (стр. 240f).
Френкель полагал, что во многом это объяснялось тем, что у молодежи было “стремление объединяться и быть независимыми от организаций, предписанных и контролируемых правительством, системой, но в оппозиции к ним”. Некоторые из них приняли форму банд, отличающихся символикой и названиями, многие из которых заимствованы из американских фильмов и музыки; иногда членов банд мужского пола видели общающимися в бомбоубежищах с детьми дошкольного возраста и молодыми девушками-подростками. Некоторые из них были членами гитлерюгенда, но многие - нет, и некоторые банды часто преследовали патрули гитлерюгенда. Один франкфуртский клуб для подростков в возрасте от 13 до 20 лет был известен показной одеждой, молодыми женщинами, пользующимися косметикой, бездельничающими в кофейнях, выпивкой, сексом, танцами под запрещенную музыку - Американский свинг (Swing-Jugend) и наслаждение эротикой, которая использовалась для дополнения их группового секса и обмена партнерами, давая им “новые идеи” или для сексуального наслаждения. Полиция была “ошеломлена”. Местный немец заметил: “12-летние демонстрировали скороспелость 16-летних, и многие 16-летние достигли половой зрелости 21-летних.[45]
Свидетельства о детской сексуальности продолжали извлекаться, но не в поисках эмпирических реалий, а для того, чтобы служить другим интересам или институтам. Те выражения были искажены судебно-медицинским контекстом, и они продолжали представлять опасность для тех, кто заявлял о себе. В эпизоде телевизионного шоу об эксплуатации под названием “Мой ребенок несовершеннолетний и чрезмерно сексуален” перед возмущенной и очарованной аудиторией была представлена группа сексуально активных молодых людей и девочек-подростков. В редком и кратком разоблачении подобных шоу анонимная новостная статья рассказывала о том, как на одну из 12-летних участниц шоу повлияла ее внешность. В шоу она утверждала, что у нее было пять любовников в возрасте от 14 до 18 лет. Ею в школе восхищались младшие школьники, просили у нее автограф, в то время как другие называли ее шлюхой, некоторые насмешки приводили к дракам. Полагая, что ей нужна помощь, сотрудники шоу направили ее к психологу; позже она сказала: “Я не так сексуально активна, как Я была” (Аноним, 1994с; Шоу Гордона Эллиота, CBS, 23 ноября 1994). Главные новости CNN (19 июля 1997 г.) сообщали о кампаниях по прекращению подросткового секса, показывая 11-летнюю афроамериканку, рассказывающую, какое сообщение она получила от Программы планирования семьи: “Если я займусь сексом, я не смогу делать то, что хочу”. Используя чувство вины, тревоги и стыда, сексуальная активность молодежи может регулироваться изнутри, но в равной степени необходимы и внешние силы. Страх издавна использовался для контроля над сексуальным ребенком, а также для управления обществом в целом. Персонажи, угрожающие детям, о которых пойдет речь в следующей главе, представляют собой одно из самых интересных побочных явлений культуры.
3
ФИГУРЫ, УГРОЖАЮЩИЕ РЕБЕНКУ
I
Сатана послужил основой для западных злодейских образов, послужил ориентиром для социального и личного чувства жертвы и доказал обоснованность стремления к окончательному, фундаментальному и вечному моральному очищению. Это иудеохристианское божество использовало два вида дьявольской практики: террор и насилие для устрашения, нанесения увечий и убийства, а также секс и соблазнение для осквернения и развращения. Около 1200 года до н.э. зороастризм выдвинул зло как отдельный независимый принцип, одно из ранних различий между телом и разумом, действующее так долго в истории Запада. Тело стало ассоциироваться в 4 веке, Христианство с идеей самого зла; сексуальные чувства и поведение были злом, потому что они были сосредоточены на теле, царстве сатаны. Древние ближневосточные демоны угрожали людям физическим вредом, но именно христианство утвердило идею о том, что такие монстры представляют моральную опасность в качестве своей главной угрозы.[1]
Как угроза детям, дьявол рассматривался в раннем Средневековье как похититель и убийца, хотя эти действия чаще совершались другими существами такие, как мужчина-инкуб и женщина-суккуб. Заимствовано из ассирийского и согласно еврейским суевериям, инкуб был сексуальным растлителем, который, по словам Иустина Мученика (ок. 160 г. н.э.), “осквернял женщин и развращал мальчиков”; один приходской священник настаивал, что он знал о трех- и четырехлетних детях, у которых дьяволы были любовниками (Мастерс 1962: 67, 70f). Они были угрозами любому, кто хранил девственность, и свидетельства жертв, подробно описывающие демонические уловки, соблазнения и греховность, появляются начиная с 1100 года, позже став основой для обвинений в колдовстве. Многие верили, что дьявол предпочитал секс с детьми, и проводились конкурсы на определение самого младшего возраста, которого желал дьявол. Некоторые считали, что это было не моложе 12 лет для девочек или 14 для мальчиков (конец детства для многих в 16 веке), в то время как другие настаивали на том, что Дьявол возжелал бы этих 6-летних детей. Восприятие дьявола как реального существа постепенно ослабевало с течением времени, поскольку зло стало более абстрактным понятием, связанным со светскими проблемами. Однако для проблем, связанных с психологическим в личности, сатана остается удобным и реальным референтом.
II
Одним из самых ранних олицетворений сатанинского зла был еврей. Изображение, подобное изображению растлителя малолетних в 1980-х годах, использовалось как для развлечения, так и для обучения, служа опорой светской и церковной власти, против которой не допускались изображения, противоречащие друг другу. Одним из основных образов был уродливый и гротескный еврей. Описание встречи Свенгали с героиней-подростком в чрезвычайно популярном романе дю Морье показывает физического еврея с
его хриплым, скрипучим, носоглотящим грачиным карканьем, его большими желтыми зубами оскалившись в собачьем оскале дворняги, его тяжелые верхние веки опустились над наглыми черными глазами... [Он оценил] различные кости скелета [Трилби] с жадным, но разборчивым одобрением.[2]
Главной характеристикой, приписываемой еврейской жизни, было то, что это был заговор с целью порабощения человечества, использующий их таинственную силу в их секретных “кольцах”. В некоторых недавно появившихся профессиональных идеологиях науки и политики 19-го века еврейство рассматривалось как “незавершенность социального морального процесса” (Бриггс 1985), а с ростом урбанизации в 17 веке еврей все больше отождествлялся с социальным, а не духовным беспорядком. Евреи ощущались не только в неряшливой городской среде, но и “повсюду”, хотя и невидимыми. Миф о “странствующем еврее” создал образ беспокойного, лишенного корней, беспорядочно направленного переносчика заразительного заговора.[3]
Евреи долгое время ассоциировались с гиперсексуальностью, рассматривались как сексуально эксплуатирующие, хищнические и разрушительные. Тацит в своих “Историях 1 века н.э." рассматривал евреев как "неумеренных в сексуальных утехах”. В христианстве евреи представлял собой злодейский контраст ассоциациям Иисуса и Марии с девственностью, невинностью, детством и материнством. Требование и решение Четвертого Латеранского Совета в начале 13 века о том, что евреи должны носить опознавательный знак, было мотивировано именно тем, чтобы предотвратить сексуальное осквернение христиан. Евреи были связаны с восточноевропейскими расовыми типами, и сексуальность была одной из их наиболее характерных черт. Рокер (1937: 328f) цитирует книгу Отто Хаузера "Раса и культура" 1924 года, которая обеспечила научную основу для этой точки зрения:
Восточный человек более похотлив, чем представители чистых рас или чем другие смешанные расы. Он заставляет мужчин и женщин танцевать обнаженными на сцене или бороться друг с другом. Он любит читать об извращениях и практикует их, когда может себе это позволить. Он порабощает женщину и порабощается ею. Он выступает за индивидуализм в том смысле, что каждый должен делать то, что ему заблагорассудится [и] насиловать девочек и маленьких мальчиков... [Он] в целом выступает за свободу всех желаний… Истем [эр] вульгарен в своей сексуальности. Нельзя пробыть с ним и получаса, прежде чем он начнет рассказывать не просто непристойные истории, но и свой собственный сексуальный опыт и, возможно, даже опыт своей жены; и женщины рассказывают о своих менструациях. Его сопляки разрисовывают стены вульвами и фаллосами и назначают свидания для полового акта в общественных местах отдыха.
В 19 веке сексуальная угроза детям снова была связана с евреями. В то время проституция была главной сексуальной метафорой социального недуга, и говорили, что евреи похищают женщин для покупателей в Европе, Англии и Ближнем Востоке. Католики в Европе конца 19 века обвиняли евреев в создании школ исключительно как источника молодых женщин и как “питательной среды” для проституция и лесбиянства (по иронии судьбы, в середине 1930-х нацисты ненадолго обвинили католическое духовенство в растлении своих подопечных; Дженкинс 1966: 29f). Совсем как критики полового воспитания 20-го века, консерваторы и антисемиты в конце 19-го века считали, что евреи учат “как надо” на курсах “разврата” и инцеста и распространяют “вседозволенность” и “порнографию” (Уилсон 1982: 587). В нацистской брошюре 1942 года, разошедшейся тиражом в четыре миллиона экземпляров на 15 языках, говорилось, что евреи “морально и умственно ниже любого животного. Внутри этого существа царит страшный хаос о диких необузданных страстях, безымянной разрушительности, самых примитивных желаниях, самой неприкрытой вульгарности” (Генри и Хиллел 1976:32). Преступления на сексуальной почве были основными элементами антисемитских нарративов. Осквернение было еврейским императивом, предписанным священными текстами. Прочтение антисемитами Талмуда выявило указание евреям использовать детей сексуально“.[4] Когда евреи не могли обмануть или соблазнить подростков словами, деньгами, гипнозом, наркотиками, алкоголем, картинками и книгами или ”выпечкой и крепким кофе" (Bytwerk 1983: 146, 110), они просто хватили и насиловал их. Наиболее печально известным является обвинение в еврейском ритуальном убийстве детей. Образ еврея как похитителя, детоубийцы и каннибала датируется, по крайней мере, 270 годом До н. э., становясь более последовательным начиная с 4-го века. С начала 13-го века и вплоть до возрождения 19-го века считалось, что одной из потребностей Еврейской жизни была необходимость получить кровь несовершеннолетних Христиан. Власти полагали, что эта кровь была необходима для ритуалов, для использования в еде и хлебе или для лечения их ухудшившегося физического состояния.[5]
Одно из самых ранних обвинений относится к 1144 году, когда говорилось, что евреи соблазнили, пытали и убили ребенка в Норвиче, Англия (Сейден 1967: 148-154). Власти XII века утверждали, что тайные еврейские общества занимались похищением христианских детей и совершением ритуальных убийств (Кунцле 1973: 181, plate 6-32). Массовые аресты и казни зафиксированы самое раннее в деле “Хью из Линкольна” в Англии в 1255 году. Истории оставались если не совсем популярными, то, по крайней мере, полезными и занимательными. На шоу Опры Уинфри (1 мая 1989 года), женщина утверждала, что была участницей ритуального насилия и что ее еврейская семья и другие люди убивали младенцев во время кровавых ритуалов.[6] С 11 века существовали “культы Марии”, в которых Дева Мария стала центральным божеством, а Иисус превратился в обнаженного грудного младенца. Считалось, что благодаря этому движению женщины десексуализировались и особое внимание уделялось целомудрию и девственности.[7] Эротофобия вновь появляется в истории христианства, и, в дополнение к корректировке родительских ролей и эмоций, возможно, существовали некоторые ассоциации эротических чувств с материнством и уходом за больными, которые усложняла теологическая политика (Maccoby 1982; Иорданова 1989: 50, 170, примечание 13). Злодейский еврей использовался как контраст этим ценностям.
К концу 14-го века считалось, что евреи убивают детей просто по злому умыслу. Некоторые рассматривали это как проявление вины взрослыми, осознающими ту боль, которую они сами причиняли детям (Classman 1975:17; Maccoby 1982:156), во многом таким же образом обвинения педофилов, пожирающие “нелюбимых” детей, являются комментарием к чувству вины или неуверенности из-за практики воспитания детей и “распавшихся семей”. К концу 19-го века идея виктимности стала более явной; доноры французского фонда помощи антисемитам представляли себя как “жертвы евреев”. Эта идея не была выдвинута фашистами 20-го века, и она не ограничивалась правыми. Ряд социалистов 19-го и 20-го веков также призывали к защите от еврейской эксплуатации (Wilson 1982: 319ff; 142ff). В позднем Средневековье произошел переход от обвинительной системы правосудия (основанной в основном или исключительно на жалобах жертв) к инквизиционной системе, в которой государство оправдывало превентивное судебное преследование во имя какого-либо лозунга, такого как преступления против “мира и достоинства государства”. Именно это изменение усилило преследование некоторых видов сексуальной активности на христианском Западе (Hsia 1988: 85, 107, 111ff, 154). В Нюрнбергских законах Германии (1933-35) браки и секс между евреями и неевреями были криминализированы. Как и многие другие движения, эти законы исходили не только из развращенного ума тирана, чтобы быть навязанными ничего не подозревающему и невинному обществу. Они были основаны на изменениях в немецкой народной и профессиональной идеологии, когда простое обвинение стало основанием для немедленного и беспощадного наказания, подобно тому, как это было в Америке в 1980-х и 1990-х годах. Крайне важно признать, что во все эти периоды популярный фольклор дополнялся и институционализировался органами культуры и администраторами в области теологии, юриспруденции, медицины и академических кругов для распространения и дальнейшей валидации благодаря своим информационным и развлекательным учреждениям.
Гитлер определенно видел в еврее сексуального демона: “С сатанинской радостью на лице черноволосый еврейский юноша подстерегает ничего не подозревающую девушку, которую он оскверняет своей кровью...” (1971: 325). Он связал евреев с проституцией и так называемой торговлей белыми рабынями в Вене, используя некоторые образы “тайного позора”, которые можно было увидеть в 1980-х годах:
Это загрязнение нашей крови, слепо игнорируемое сотнями тысяч наших людей, систематически осуществляется евреями сегодня. Систематически эти грязные паразиты нации оскверняют наших неопытных молодых белокурых девушек и тем самым разрушают то, что уже невозможно заменить в этом мире. (1971:562)
Оскверненные арийские дети были повреждены навсегда. Они претерпевают духовную и физическую трансформацию, вплоть до того, что сами становятся евреями (Bytwerk 1983:145). В статье из номера журнала “Дер Штирмер” за 1926 год описывались "тусклые глаза девушки, [которые] говорят об убитой душе" (стр. 152), почти точное выражение чувств, услышанных 60 лет спустя. Другой немецкий текст 1935 года (стр. 145) напоминает цитированный ранее Джонатаном Келлерманом текст о детях, подвергшихся жестокому обращению или, если использовать эквивалентный термин 1930-х и 1940-х годов, “оскверненные”:
Свет в их глазах погас. Исчезло и то неописуемое сияние нежности, которое есть у каждой немецкой девушки... Они выглядели мертвыми и пустыми. Их поведение и манера держаться были скучными и безразличными. Их речь была монотонной... Их души стали еврейскими.
Нацисты говорили, что евреи стояли за кампаниями, направленными на то, чтобы позволить немецким детям оставаться на улице поздно вечером, идея заключалась в том, что дети попадут в еще большие неприятности и будут более уязвимы для еврейских растлителей (стр. 126). Джулиус Штрайхер и другие распространяли брошюры, предупреждающие о еврейской сексуальной угрозе, и Дер Штюрмер подсчитал, что из всех тех, кого погубили евреи, были еще сотни скрытых, или, как сказали бы в 1980-х годах, “незарегистрированных”. Детей учили ненавидеть евреев и верить, что, несмотря на их нормальную внешность или поведение, евреи по своей сути преступны и лживы.[8] Молодежи говорили, что они ни в чем не виноваты, и усиленно доказывали, что дети, то есть арийские дети, несомненно, невиновны. Предвосхищая теории инстинктивной нравственной восприимчивости детей 1980-х годов, а Автор книги "Фашизм 20-го века" Хьюстон Стюарт Чемберлен писал, что
очень маленькие дети, особенно девочки, часто обладают довольно выраженным расовым инстинктом. Часто случается, что дети, которые понятия не имеют, что значит “еврей” или что в мире существует что-либо подобное, начинают плакать, как только к ним приближается настоящий еврей или еврейка! (1911:1:537)
Решением, предложенным экспертами и властями того времени для борьбы с осквернением, была кастрация или смерть.[9] Известный предвестник паники 1980-х годов из-за пропавших детей произошел во Франции в конце 1960-х годов и был хорошо задокументирован Морином и его коллегами (1971). Слухи о похищениях евреев продолжали циркулировать и после Второй мировой войны, и в мае 1969 года французский журнал “Нуар и Блан” перепечатал отрывок из книги Барлея 1968 года под названием "Уловки белого работорговца". Анекдот был принят как факт и текущее событие, вызвав кратковременную истерию. Морин отметил, что ожидаемые источники рациональности и критики, а именно интеллектуалы и либералы, полностью не смогли противостоять кризису, ситуация повторилась в Америке и Великобритании в 1980-х годах.
В начале века в Америке известным инцидентом с участием еврея и изнасилованной и убитой 13-летней молодой женщины стало дело Лео Франка. Линдеманн считает, что судебному преследованию и линчеванию Фрэнка способствовало популярное представление о евреях как о гиперсексуалах, южные традиции, которые рассматривали белых женщин как добродетельных по своей сути, и мужское представление о себе, основанное на героическом долге, связанном с честью. Обвинения в сексуальном насилии были связаны с готовностью поверить в виновность евреев, готовностью отдельных лиц и учреждений: поощряйте и эксплуатируйте накал страстей в конкретных политических целях, а также недовольство властями за то, что они действуют медленно или некомпетентно, или вообще не действуют в соответствии с неадекватными законами. Существовала также вера в международные заговоры, истории об исчезновении детей и широко пропагандируемые признания злодеев и свидетельства жертв.[10] Другие религиозные и этнические группы использовались для аналогичных целей. Китайцы 19-го века рассматривали христиан как похитителей младенцев и убийц. Во время сербской “этнической чистки” 1990-х годов мусульмане, как говорили, захватывали и удерживали молодых Сербских девушек в борделях и бросали сербских младенцев львам в зоопарках (Анонимно 1992о).
За четыре или пять столетий до христианской эры в Древней Греции существовали демонические типы, ныне известные как “Другие”. Иностранец или аутсайдер стал варваром, персонажем, который выполнял ряд социальных, политических и психологических функций. Варвар изначально был просто неполноценным, а затем опасным; они были агрессивными, враждебно настроенными, иррациональными и бесчеловечными. Рассказы об иностранцах, с которыми "Один на войне" часто включает истории о жестоком обращении с детьми, становясь частью определения варварства. В Средние века, сохраняя сильную преемственность с греческими и римскими идеями, а также опираясь на различных лесных демонов языческой Европы, возникло еще одно базовое представление о зверином образе угрозы - “дикий человек”. Этот гротескный образ мужчины, иногда женщины, живущего в естественном состоянии, вселял ужас в тех, кто считал себя цивилизованными. Эти “дикие люди” были чудовищны как социально, так и физически; он был в дикой местности, потому что он каким-то образом потерпел неудачу в процессе цивилизации или имел дефекты, которые сделали его неспособным жить в “нормальном” обществе. Дикий человек не признавал авторитетов и из-за своей принадлежности к животным был постоянно враждебен и агрессивен. Он похищал и пожирал людей, особенно детей. То же самое можно сказать и о “диких женщинах”, но в дополнение к краже и поеданию детей они, как говорили, были довольно “похотливыми” и “нескромными” с малолетками (Бемхаймер 1952: 33ff). Дикие мужчина и женщина не были одиночными угрозами. Они были организованы в “орды”, которые сговорились применить насилие к упорядоченным сообществам.
Дикий человек использовался для обучения детей послушанию, функция, которая обычно усиливает свирепость угрожающих образов. Угроза похищения, изнасилования и смерти использовалась для того, чтобы крепче привязать женщин и детей к традиционным домашним и политическим структурам средневековой жизни, а также для возвышения мужского героизма. В сказках и инсценировках после 14 века женщины и дети часто фигурировали в сюжетах, которые усиливали их роль жертв. Истории о изнасилованных на одном уровне девочки были предостережениями против посягательств одного мужчины на собственность другого, но на другом, менее явном уровне сказки подчеркивали не менее важное отношение: “порок, подлежащий наказанию, - это женская неблагодарность за помощь и щедрость мужчины” (Бемхаймер 1952: 122f). К концу XIV века сексуальные темы диких мужчины и женщины стали более выраженными, а их выходки и положение в обществе стали более метафоричными, связанными с изменением представлений о любви, сексе и гендере. Эти конфликты и порожденные ими истории продолжались несколько веков. Как обычно в подобных представлениях, образовательная функция сочеталась с развлекательной ролью. Возникли “культы дикого человека”, в которых охота и поимка дикого человека ритуально разыгрывалось в тщательно продуманных драмах. В одной из вариаций школьницы помечают дикаря красным воздушным шариком - “плен женской невинности” (стр.53).
К концу 15-го века эти качества были присущи недавно открытым “индиям” “Новых миров”, включая Тихий океан и Дальний Восток. С самого начала повышенное вожделение как у мужчин, так и у женщин (о чем свидетельствуют их нагота) и их любовь к насилию (особенно к войне и каннибализму) отделяя их от нормальных и цивилизованных людей. Эксперты того времени описывали характер дикарей, чтобы доказать, что туземцы были полны врожденного греха и отчаянно нуждались в обращении. С другой стороны, время от времени поступали сообщения о мирных и разумных культурах в начале XVI века, и они также подвергались инвентаризации в той мере, в какой они сигнализировали об обещании хорошего гражданства, полезного труда и доступных сексуальных услуг. К началу 17 века, особенно после после уничтожения английской колонии в Виргинии в 1622 году появилась гораздо более враждебная характеристика туземцев. Беркхофер (1978:21) цитирует стихотворение из 1622 Кристофера Брука, в котором коренные американцы названы “злыми”, “антирелигиозными”, “ошибками природы”, “отбросами”, “мусором”, а также “паразитами земной слизи”, которые были “Отцами сатаны и сынами ада”. Коттон Мазер в своих "Унижениях, за которыми последовало избавление" (1690) и "Магналии Кристи Американа" (1702) был лишь одним из многих, кто с удовольствием описывал, как Коренные американцы получали удовольствие от избиения, пыток и убийства детей (Пирс 1947). Стихотворение Брук заканчивалось призывом к тотальному уничтожению туземцев, “не оставив ни единого живого существа”.
Во многом это отношение было основано на гоббсианской концепции жизни как войны всех против всех. Эта вера давала самопровозглашенным высшим элементам общества “законное право подчинять или убивать” любого, кого классифицировали как “неразумных существ”. Более конкретно, христиане считали, что “по праву природы мы [можем] уничтожать, не будучи несправедливыми, все вредное, как животных, так и человека” (Эшкрафт 1972:151). Представление о туземцах (и природе) как о демонической угрозе сохранялось до конца 19-го века, или до тех пор, пока это было необходимо для оправдания политической и экономической экспансии.[11]
Не менее известны как этнические монстры чернокожие. Как и евреи, описания внешности были преувеличены и искажены. Еще в начале 17 века их считали похожими на животных, и эксперты считали, что они подвержены болезням из-за дефектов конституции.[12] Это очень хорошо послужило делу сегрегации в конце 19-го и начале 20-го веков, когда разделение было оправдано целями санитарии. В то время как некоторая риторика указывала на экономические угрозы, наиболее распространенный образ, восходящий, по крайней мере, к началу 1660-х годов в явных американских формах (Jordan 1974:44, 71) рассматривали чернокожих как сексуальную угрозу женщинам и детям. То Олбани, Нью—Йоркская газета “Атлас энд Аргус” за февраль 1863 года предупреждала, что, если чернокожие будут освобождены, по всей стране раздадутся "вопли изнасилованных женщин, вопли искалеченных детей, стоны замученных и бессильных мужчин". New York Daily News опубликовала историю о том, как негры Западной Индии “пировали на телах детей”, а в брошюре редактора газеты Джона Ван Эври 1862 года описывалось, как бесчинствовали чернокожие на Гаитянской революция 1790-х годов “маршировали с младенцами, насаженными на копья” (Вуд 1968: 27f). Изнасилования женщин и девочек воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Массовый геноцид детей в Руванде в 1994 году укрепил этот образ.
Слоткин (1973: 23f) цитирует интересную исповедь раба Томаса Пауэрса, опубликованную в 1796 году. В ней Пауэрс сказал, что его “заманила” в постель к женщине, когда он был мальчиком, и этот опыт привел к навязчивой сексуальной активности. Он “изнасиловал” молодую девушку, а затем вернулся в дом своего хозяина, чтобы мирно поиграть в шашки с детьми в доме. Слоткин отмечает, что здесь изображен хитрый зверь, замаскированный знакомым и дружелюбным лицом, мотивом, которого 19-й и 20-й века стали одержимы.
Суть сексуальной угрозы содержалась в слове “смешение рас”, термине, придуманном двумя газетчиками в конце 1863 года в знаменитой брошюре, которая выглядела как инструкция о том, как заниматься сексом с белыми женщинами, хотя на самом деле она предназначалась для дискредитации республиканцев-аболиционистов того времени (Wood 1968; 53ff). Этот термин охватывал нечто большее, чем смешанные браки или рождение детей “смешанной породы”. Он относился к разнообразным социосексуальным отношениям и ролям — все незаконное, подпольное и извращенное — между черными и белыми. Журналисты того времени восприняли брошюру как факт и назвали смешение рас “настоящим, полностью организованным, живым монстром, [который] поднимает свою ужасную голову среди нас и угрожает поглотить само общество”.[13] Образ, вызванный этим, представлял собой слабую группу уязвимых женщин и детей, но на менее явном уровне это был столь же пугающий образ беспородных детей, наводняющих общество, происходящих от (неописуемо) соблазненных или (невыразимо) готовых на все белых женщин. Пресса часто публиковала истории о том, как чернокожие насиловали детей или совращали их, хотя, как и в 1980-х годах, “в большинстве случаев общественность так и не узнала, что произошло на самом деле”, - сказал Вуд (стр. 145ff). Эксперты того времени выдвинули как факт, что у негров отсутствовало какое-либо чувство асексуальной романтической любви, и ими двигала только животная похоть. Наказанием за это были пытки, кастрация и смерть, потому что считалося, что преступник находится “вне цивилизации” и не достоин “беспристрастного обсуждения” (стр. 146). Уильям Купер Бранн, издатель “Иконоборца" в Уэйко, штат Техас, в конце 19-го века, писал, что "если Юг хочет когда-нибудь избавиться от негритянского насильника, он должен взять выходной и убить каждого представителя проклятой расы, который откажется покинуть страну... Негр-мужчина не только представляет угрозу для белого мужчины, но и “сифилитическая девчонка-”желторотик" развращает его сыновей", - сказал он (Carver 1957: 43f).
Подобные образы продолжались и в 20 веке. В фильме Диксона "Члены клана" Гас, “наполовину ребенок, наполовину животное” насилует юную белую девственницу - кульминационный момент книги:
Гас шагнул ближе с уродливой ухмылкой, его приплюснутый нос раздулся, зловещие глаза-бусинки широко расставлены, блестят по-обезьяньи, когда он смеется: “Нам не нужны деньги!” Девушка издала крик, долгий, дрожащий, душераздирающий, жалобный. Один тигриный прыжок, и черные когти зверя вонзились в нежное белое горло, и она замерла.[14]
Насильник пойман и подвергнут линчеванию, и книга заканчивается текстом "цивилизация спасена, а Юг избавлен от позора". Конец.” Среди наиболее распространенных этнических злодеев, особенно во время антииммигрантских кампаний середины-конца 19-го века, были азиаты, в первую очередь китайцы. Они отождествляли себя с наркотиками, проституцией и трусливым коварным насилием. С помощью растущей индустрии новостей негативные образы азиатов прочно утвердились в Америке примерно к 1850 году.
Основой для большей части этого послужили христианские миссионеры из их путешествий в Китай конца 18-го и начала 19-го века. Эта страна была полна “грубого разврата”, как заявил один в 1804 году, а другие сообщали об “оргиях идолопоклонства”, с девочками, которым едва исполнилось двенадцать лет, и которые были отданы на растерзание мужчинам с звериными страстями. Родители занимались проституцией своих дочерей; мужья - своих жен; братья — своих сестер...с дьявольской радостью” (запись 1882 года в Miller 1969: 62). Кроме того, поскольку китайские мужчины были “мерзкими и оскверненными”, молодым женщинам грозила опасность быть “заманенными” “картинками, песнями и афродизиаками” в “врата ада” для мужчин, совершать “отвратительные поступки”, сетовал Сэмюэл Уильямс в своей книге 1848 года. Точно так же преподобный Р. С. Маклай в "Жизни среди Китайцев (1861) сообщал о “полуночных оргиях... вакхических гуляк”, где “похоть находит свободный доступ в пределы семьи, форума и храма” (Миллер 1969: 63). Поступали сообщения о проститутках в возрасте четырех и пяти лет (стр. 171). Активными были и жены миссионеров, которые опубликовали множество мрачных рассказов о нечистоплотности, курении опиума, полигамии и детоубийстве в быстро растущих женских журналах середины 19-го века. Китайская культура была “открытым бассейном с нечистотами, в гнилостных водах которого ребенок может окунуть ноги”, об этом заявил Этвелл Уитни в 1878 году (Wu 1982:32). Это чувство угрозы существовало более века, но было особенно острым в начале 20-го века, когда наркотики начали восприниматься как личная и социальная угроза. Хэндлин писал, что многие верили, что “жители Востока заманивали маленьких девочек в свои притоны для совершения преступлений, которые слишком ужасны, чтобы их можно было вообразить" (1963:304, курсив в оригинале).
Журналистская обзорная экскурсия по чайнатауну Нью-Йорка в 1873 году выявила шокирующее присутствие “молодых белых девушек”, которые “одурели от дыма опиума”. Отвечая на запрос репортера, китайский гид ответил “с ужасной ухмылкой”, что в Чайнатаун приезжает много обездоленных белых девушек и “китайцам всегда есть что поесть, а ему нравятся молодые белые девушки. Он! он” Репортер был обеспокоен тем, что эти молодые люди были готовы “продать свои души за пропитание своих тел” китайским мужчинам (анонимно, 1873). The Workingman's Advocate в номере за 1873 год ссылался на “унизительные привычки” и “отвратительные болезни” азиатов, нанятых в качестве домашней прислуги в этой стране, которым разрешалось “мало мыться и иметь маленьких белых девочек”, и что под китайскими поселениями были катакомбы, где белых девочек держали в плену за “преступления, которые невозможно назвать” (Миллер 1969: 198), что на 110 лет опередило идею о том, что подземные пещеры находились под дошкольным учреждением Макмартин. Анонимный журналист (1876) посоветовал родителям никогда не оставлять своих детей с [китайской прислугой], особенно с маленькими девочками”. В 1879 году был издан призыв спасти китайских детей от использования солдатами-завоевателями “из-за практики, к сожалению, слишком распространенной на Востоке, но, по словам лорда Кока, "это не так среди христиан есть много достойных упоминания” (Миллер 1969: 185). В 1889 году двух владельцев прачечной в Милуоки обвинили в “растлении” более двадцати девочек в возрасте от девяти до тринадцати лет. Возмущенная толпа разгромила прачечную, и газета "Нью-Йорк Уорлд “сообщила о показаниях с захватывающими подробностями под заголовком "Два Монгольских минотавра — шокирующее развращение невинных”.[15]
Фильм Д. У. Гриффита “Сломанные цветы”, в котором китаец испытывает влечение к двенадцатилетней девочке, во многом основан на ассоциации азиатов, наркотиков и разврата, что придает ему ужас и эротизм."[16] Среди этих "убогих переулков" (Берк 1917:6), моряк-бродяга Чен Хуань видит Люси, купленную боксером-призером, “Сражающимся с Берроузом”. Его поражает “ что-то странно вызывающее в том, как она вскидывала голову и как развевалась маленькая голубая юбочка, застенчиво касаясь ее колена”; позже ему снится “бледное, прелестная, как лилия, дитя". Позже Чэн Хуань видит Люси в опиумном притоне, куда ее привела другая девушка, которая “увидела в ней возможный источник дохода”. Он нежно прикасается к Люси и забирает ее домой. Она идет добровольно, потому что он был первым человеком, который “отнесся к ней с почтением, как будто она тоже имела право на жизнь”. Он не занимается сексом с девушкой, кроме “долгих благоговейных поцелуев” своими “лимонными губами” и “нежных ласк своими желтыми руками”. Девочка процветает под его опекой, но Сражающийся Берроуз находит ее, забирает обратно и забивает до смерти; “Желтый человек и ребенок. Оно was...as вы могли бы сказать... так... вроде как... ну, не так ли? Он проревел, что это было ненахерельно” (стр. 17; многоточие в оригинале). Чэн Хуан совершает самоубийство над телом Люси, но перед тем, как покинуть комнату Берроуз, он оставил змею, которая убивает Берроуз. То же самое относится и к японцам, традиция очернения которых усилилась в политических целях во время различных военных кампаний в конце 19-го и 20-м веках. Во время Второй мировой войны они характеризовались как особенно жестокие по отношению к женщинам и детям. Американский пропагандистский фильм содержал сцену с японскими солдатами, подбрасывающими младенцев в воздух и насаживающими их на штыки (Дауэр 1986: 44; 326, примечание 10). Во время последней войны Америки в Азии вьетконговцев характеризовали как детоубийц и неистовых сексуальных извергов (Керн 1988:48).
III
Опасности для детей часто связаны с полом и сексуальными ролями. В языческой и Еврейской истории существовали различные угрожающие образы женщин, но христианская традиция гораздо больше склонялась к негативной стороне, способствуя охоте на ведьм в Европе с 15 по 18 века и Америке. Был применен ряд санкций, чтобы отвергнуть и наказать то, что Дэвис назвал “гротескно скачущей женщиной” (1975: 124-151). Характеристики ведьм достаточно хорошо известны, но менее признавались до недавнего возрождения сатанизма в 1970-х и 80-х годах, когда ведьмы представляли угрозу для детей. Ведьм шестнадцатого и семнадцатого веков часто обвиняли в совращении детей, а также в убийстве и использовании их в ритуальных целях или в каннибализме.[17] Предостережение детей от ведьм помогло удержать молодежь в рамках границы культурно разрешенных пространств и моделей поведения. Ведьмы Гензеля и Гретель, а также ведьма, прячущаяся на кукурузном поле (die kornmutter), являются предками педофилов-убийц, скрывающихся в торговых центрах или залах игровых автоматов.
Еще одна женщина, представляющая угрозу для детей, ненадолго появилась в середине 20-го века. На пике развития психиатрических теорий развития, она появилась также в период гипермаскулинности, частично вызванной импульсом 2-й мировой войны в позиции времен холодной войны и частично из-за сильных консервативных гендерных идеологий. “Момизм” представлял собой особую угрозу в виде чрезмерно заботливой и удушающей матери, которая если и не сделает своих сыновей гомосексуалистами (главный мужской страх того времени), то, по крайней мере, искалечит его лично и социально. Она добивалась этого с помощью сексуальной соблазнительности, которая часто переходила в различные степени физического и сексуального контакта (Уайли, 1942; Себальд, 1976). Этот взгляд на матерей, в значительной степени пропагандируемый мужчинами, возник во времена навязчивой гиперфемининности и матемализма. Самый известный образ демонической женщины - роковая женщина. Прослеживается до Вавилонской Лилиты и иудеохристианской Лилиты, “Прекрасная дама без милости” (Pass 1974) - популярный образ либертинизма в 18 веке. Роковая женщина вновь появилась в 19 веке как соблазнительная и смертельно опасная женщина, предвещая переход от образа женщины-жертвы к образу женщины-злодейки. Это продолжалось на протяжении всего 20-го века в различных обличьях и с разной степенью интенсивности (например, Спиллейн 1951), особенно во времена активной феминистской агитации или неконтролируемого социального и экономического присутствия женщин.
Начиная с IV века, женщины рассматривались как искусительницы и разрушительницы мужчин; интенсивность мужской религиозной преданности часто подпитывалась навязчивым и враждебным вниманием к женским телам.[18] Говоря о жанрах христианской агиографии, Замечает Уорнер,
садомазохистское содержание восхвалений мученикам мужского и женского пола поражает...особое внимание к разорванной плоти женщины раскрывает психологическую одержимость религии сексуальным грехом, а пытки, которые громоздятся одна на другую с порнографической повторяемостью, лежат в основе отождествления женщины с опасностями сексуального поведения. (1976:71)
Многое из этого было частью особого позднесредневекового христианского акцента на жертвоприношении и мученичестве. В результате появилось много длинных текстов, подробно описывающих пытки Иисуса и множество других святых, которые стали прославлением боли и страданий.[19] В некоторых сонетах Шекспира XVI века женщина является демонической и порочной; его альтернатива, по-видимому, рекомендует ангельских мальчиков в качестве объектов доверия и эротической преданности. Роковая женщина 19-го века возникла в контексте относительно новых идей “извращенности” и “декаданса”, с угрозами, которые ощущались в такой же степени социальными и культурными, как личными и индивидуализированными, проистекая из опасений по поводу империи, порядка, религиозных ересей в форме свободомыслия и оккультизма, напряженности в отношении гендерных ролей и сексуальности (Pass 1974: 170ff).
С этим связан образ женщины, делающей аборты. Такие женщины рассматриваются как особенно злые и опасные, сочетающие тревогу по поводу секса и смерти с социальным и политическим абсолютизмом и беспокойством о детях (Browder 1988:70). Изображение таких женщин продолжалось и в 20 веке. Золингер описывает судебное преследование одной женщины, в ходе которого судебный процесс и освещение в СМИ были “разновидностью порнографии, криптопомо-шоу, в котором во имя закона и общественной морали мужчины ссылались на обнаженные тела женщин, их пол и их уязвимость в стиле, который был одновременно презрительным и эротичным" (1994:199f, курсив в оригинале). Женщина, проходившая по делу, была патологизирована психиатрами как женщина-неудачница и антидетская. Ее связи со сторонниками характеризовались как ведьмовские, а связи изображались как шабаши.
Роковая женщина обычно рассматривалась как взрослая женщина, но иногда изображения были нанесены на девочек-подростков, предшественниц фигур злых детей середины 20-го века. Наиболее конкретная угроза возникла во время страхов перед белыми рабынями в конце 19-го и начале 20-го веков. Одной из главных фигур того времени были сводницы. Покупка и продажа “детей” для занятия проституцией, как занятие женщин, вызывала глубокое беспокойство у современных наблюдателей. Делая приятный намек на представления о восточном декадансе конца 19-го века, прокурор Клиффорд Прокуресс, Роу написал,
Сделки, которые включают в себя такие безобразия, которые невозможно превзойти в худший летописи турецкого произвола эти женщины-сводницы часто приводят в исполнение, не дрогнув губами и не опустив ресниц. Богато одетые, с обворожительными манерами, иногда обладающие остатками былой красоты, и при этом острые, как бритвы, и отточенные, как стальные капканы, эти женщины - самые опасные существа, существующие в цивилизованном мире… Они... олицетворяют “гарпий” былых времен, потому что с их пальцев капает кровь, и они наступают на разбитые сердца. (1911:104, 111)
В 1980-х и 1990-х годах женщины вновь рассматривались как угроза детям. Одни считали, что женщины, решившиеся на аборт, убивают детей. Другме, что беременные женщины подвергали опасности своих нерожденных детей и наносили им вред, употребляя никотин, алкоголь, запрещенные наркотики или “нездоровую” пищу, или даже не принимали надлежащие витамины (Tsing 1990). Но самой популярной была женщина, ухаживающая за детьми. Начиная с 17-го века, но особенно в конце 19-го и начале 20-го века в Англии (и в меньшей степени в Европе и Америке) было широко распространено мнение, что детские няни приобщали своих подопечных к сексуальным практикам, обычно мастурбации, но также и половому акту, оральному сексу и различным садомазохистским удовольствиям, как связывание и порка.[20] Это убеждение, наряду с несколькими подтверждающими свидетельствами (Gathome-Hardy 1973: 100, 158-169), стало официальным медицинским фактом (Chauncey 1982/83:135) и предметом социальной озабоченности, усугубленной изменением социально-экономического устройства 19-го века. В 1871 году примерно половина британской домашней прислуги было меньше 15 лет, а некоторым - меньше 10; большинство начало работать по дому в возрасте 12 или 13 лет. Были также молодые слуги-мужчины, и есть свидетельства того, что некоторые женщины из высшего класса в доме флиртовали со своими мальчиками-слугами и сексуально насмехались над ними.[21] Более поздний вариант этого появился после Второй мировой войны, когда женщины были повторно одомашнены и возобновились заботы о воспитании детей. Демоническая няня стала отличным средством для бытовой драмы и жанров ужасов.[22] В 1980-х годах роль перешла к работнику дошкольного учреждения.
Гомосексуальность - другой главный образ, представляющий угрозу для детей, связанный с сексом и гендерной принадлежностью. Босуэлл сказал (1980:143), что связь гомосексуализма с растлением малолетних, по-видимому, становится “заметной” примерно к четвертому веку.[23] Эта ассоциация на Западе оставалась широко распространенной до самого недавнего времени, поскольку предполагалось, что однополая ориентация, как “извращение”, содержит в себе все другие стигматизированные сексуальные интересы, включая влечение к детям. Евреи и геи также были объединены в 19 веке, когда медицина и сексология начали пытаться объяснить выявлять и наказывать “извращения” (Гилман, 1988). Немецкие национал-социалисты избрали гомосексуалистов мишенью для уничтожения, потому что они “выражают склонность, противоположную нормальному национальному сообществу. ... Вот почему [это] не заслуживает пощады.”[24]
Одной из наиболее интересных ироний меняющейся политики в начале 1970-х годов было появление евреев, призывающих к исключению и уничтожению геев и лесбиянок. Несколько еврейских лидеров и конгрегаций были весьма заметны во время гомофобных погромов, возглавляемых Анитой Брайант, но степень еврейской поддержки остается неизученной. В то время как некоторые гомосексуалисты пытались возложить венок к памятнику жертвам нацизма, на них напали другие жертвы Холокоста, которые кричали, что геи “все должны были быть уничтожены, и они считали себя Героями войны против геев и лесбиянок“, которые были наказаны за девиацию.[25] Гей-парад в Нью-Йорке 1985 года собрал протестующих из еврейского морального Комитета (Bisticas-Cocoves 1985a), а раввин Нью-Йорка запретил евреям поддерживать мэра Марио Куомо из-за его указа, запрещающего дискриминацию в отношении гомосексуалистов (Новостная заметка, Нью-Йорк, август 1985 г.). Гомосексуализм стал конкретно обозначаться как угроза для молодежи в 19 веке. Наряду с манипуляциями с проблемой белого рабства, британский журналист У. Т. Стэд поощрял судебное преследование гомосексуалистов среди молодежи и сыграл важную роль в принятии закона, объявляющего вне закона любое гомосексуальное поведение. Британские судебные преследования возобновились в 1889-90 годах, когда начались расследования и аресты в связи с делом на Кливленд-стрит (Хайд, 1976). Оно было инициировано полицией, когда они заметил рассыльного с телеграфа, у которого располагаемый доход был больше, чем позволяла его работа; его постоянно допрашивали, пока он не признался, что занимался коммерческим сексом. Этот эпизод примечателен тем, что он выявил основные интересы властей, а именно поддержание классовых границ и наблюдение за молодежью; крики о коррупции прозвучали позже. Психиатр О. Сперджен Инглиш сказал, что из-за отсутствия у гомосексуалистов должного “контроля над импульсами” они будут “более безжалостны в совращении детей младшего возраста, чем гетеросексуальные индивиды".[26] В некоторых местах поиск был усилен за извращение, приравнивая гомосексуальность к растлению малолетних. Флорида опубликовала выводы своего Комитета по расследованию законодательства в 1964 году (Katz 1975). В документе приводились конкретные случаи, такие как “атлетически сложенный“ тренер Малой лиги, который ”совращал“ членов своей команды на гомосексуалистские действия, а также пользовался "услугами добровольной 13-летней девочки для нормальной сексуальной стимуляции мальчиков и для своего собственного удовлетворения”. Комитет также полагал, что они обнаружили “группу” мальчиков, которые с раннего подросткового возраста до ранней взрослой жизни работали проститутками и позировали для фотографий.
Гомосексуалисты, которых Комитет считал сексуально ненасытными, должны были “вербовать” молодежь, используя лесть и эротику, потому что они были “зависимы от молодежи”. Они сказали, что растлитель малолетних (предположительно, гетеросексуальный мужчина) редко убивает или калечит свою жертву женского пола, и шансы на выздоровление у жертвы хорошие. Однако гомосексуалист (предположительно, растлитель малолетних), предпочитает,
тянуться к ребенку во время нормального сексуального пробуждения и проводить психологическую подготовку к физическому контакту. Цель гомосексуалиста и часть его удовлетворения состоит в том, чтобы “расположить” к себе молодого человека, привлечь его к гомосексуальности.
Они выдвинули теорию, согласно которой подвергшиеся насилию становятся насильниками, утверждая, что “человек, пострадавший от практикующего гомосексуализма, сначала жертва, затем сообщник и, наконец, сам исполнитель гомосексуальных актов”. Молодежь, “однажды запутавшаяся в паутине гомосексуальности”, может сама выступить в роли агрессивных вербовщиков “молодых мальчиков. Именно этот человек оказывается лидером (хотя обычно по совету взрослых) гомосексуально ориентированных школьных "тайных обществ", чьи обряды инициации охватывают всю гамму гомосексуалистских призывов.” Гомосексуалисты “торгуют фотографиями, как некоторые подростки торгуют бейсбольной жвачкой. Гомосексуальность ответственна за распространение болезней и проституции, и существует “склонность, открывающая пути к преступлениям и поведению, выходящему далеко за рамки рациональности”. В докладе делается вывод, что дети должны быть защищены в войне за нравственность”. Деятельность Комитета в ходе его девятилетней войны включала широкое использование информаторов и провокаций, приводящих к разрушению карьеры и тюремному заключению, что постоянно классифицирует большое количество людей как “предрасположенные” сексуальные преступники.
Эта точка зрения частично была результатом слияния традиций поиска козлов отпущения, сексуальных тревог и профессиональной некомпетентности, поощряемых политикой, периодом, известным как “маккартизм”. В 1950-е годы наряду с коммунистами проводилась энергичная чистка гомосексуалистов, которые часто считались одними и теми же. ФБР передало свои досье журналистам, стремящимся разоблачить и наказать геев и подрывников. Большая часть этой информации была получена нелегально, и большая ее часть была неверной и спекулятивной. Значительная часть материалов имела отношение к неполитической деятельности, но поскольку гомосексуалистическое поведение было незаконным, журналисты сочли обвинения богатой пищей для печати и вещания. ФБР собирало информацию о гомосексуалистах с конца 1930-х годов, а в 1940-х и 1950-х годах активно проводило кампании по разоблачению гомосексуалистов и их увольнению, особенно с преподавательской работы (Anonymous 1950, Pessen 1993: 150). Д'Эмилио отмечает (1983:48), что в таких контекстах якобы либеральные организации по защите гражданских прав, такие как Американский союз гражданских свобод, иногда поддерживали подавляющую политику государства.
Вальдек (1960) утверждал, что гомосексуалисты “по самой своей природе порочны… принадлежат к зловещему, таинственному и эффективному интернационалу. Домашний очаг, как его называли в середине 20-го века,[27] состоял из отдельных лиц “Спаянные воедино идентичностью своих запретных желаний, своих странных, печальных потребностей, привычек... не говоря уже об их возмутительно бессмысленном словарном запасе. Опасность, возможно, хуже, чем сексуальное соблазнение, “нельзя не задаться вопросом, что станет с обществом, дети которого постоянно подвергаются тошнотворной двусмысленности их манер, их детской экспансивности, позам, их шуткам”. Руссо привел в пример несколько популярных фильмов или телевизионных постановок 1960-х годов, в которых геи или лесбиянки изображались привлекательными для молодежи. Он упоминает эпизод 1975 года из сериала “Возмущение” доктора медицины Маркуса Уэлби, в котором учитель занимается сексом с 14-летним учеником. Кампания, инициированная Национальной Целевой группой по геям внесла изменения в сценарий, призванный “объяснить разницу между гомосексуалистами и растлителями малолетних”, и Руссо почувствовал удовлетворение от того, что благодаря гей-агитации “общественность была проинформирована о том, что большинство растлителей малолетних в этой стране есть гетеросексуальные мужчины, которые нападают на молодых девушек” (1981:223).
К 1970 году большинство (72%) населения с готовностью поверило, что гомосексуалисты склонны пытаться заниматься сексом с детьми (Левитт и Классен, 1974). Тревожность сохранялась на протяжении 1970-х годов, когда геи и лесбиянки требовали признания или освобождения. В популярных статьях в начале десятилетия продолжали упоминаться гомосексуальность и сексуальное растление молодежи. Мальчиков из неблагополучных семей совращали в “кольца проституции” и держали в плену, угрожая расправой избиения и смерти, если они хотели уйти (Аноним, 1972, 1973). Несколько “колец” были сформированы “уважаемыми членами сообществ”, и, что наиболее тревожно, один мужчина, как говорили, написал “Билль о правах” для мальчиков, который включал “ключевой” пункт: “Каждый мальчик имеет право на любовные отношения по крайней мере с одним ответственным взрослым мужчиной, с кем он может строить свою жизнь.[28] По большому счету, они оставались частью дискурса против гомосексуальности, а не педофилии. До того, как Ллойд Мартин обнаружил педофила, в 1976 году он утверждал, что большинство растлителей были гомосексуалистами и что 70% всех растленных детей были мужского пола (Love 1982). Гомосексуалисты в конце 1970-х годов все еще испытывали негодование по поводу предрасутков гомосексуальности, хотя утверждение о том, что гомосексуалисты вербуют детей, к тому времени рассматривалось даже большинством консерваторов как “утка” (Will 1977).
Но эмоционально насыщенные и политически порочные гомофобные кампании продолжались, наиболее разрекламированным было движение, возглавляемое Анитой Брайант. Основой всей ее кампании было то, что гомосексуалисты представляют угрозу для детей. Гомосексуалисты должны были быть отстранены от должностей, которые могли бы рассматриваться в качестве “образцов для подражания” для детей (особенно в качестве учителей), поскольку, как утверждалось, они активно участвуют в сексуальных поисках детей, нуждаясь в “обращении” их к гомосексуальному “образу жизни”. Гомосексуалисты “не могут размножаться — поэтому они должны вербовать, освежать свои ряды, для этого они должны привлекать молодежь Америки”, - сказала Брайант (1977:62). Брайант привлекла профессионалов, которые поддерживали ее цели и предлагали законы: Герберт Хендин (директор психосоциальных исследований в Центре политики Исследования), доктор Чарльз Сокаридес (психиатр), С. И. Хаякава (ученый и сенатор США) и Ширли Ван Феми (сотрудник психиатрической больницы Нью-Джерси, Медицинский центр в Принстоне), который, как цитировали, сказал: “Движение за права геев, охватившее США, представляет угрозу для детей страны.... Если родители капитулируют перед гомосексуалистами, гомосексуальные влияния, которые их окружают, общество, каким мы его знаем, будет разрушено (Брайант 1977: 114f). Цитировались слова доктора Сэмюэля Сильвермана, адъюнкт-профессора психиатрии в Гарварде, о том, что “учитель-гомосексуалист, который публично выставляет напоказ свои сексуальные отклонения, так же опасен для детей, как и один из религиозных культистов”. (стр. 116).
Также в кампании широко использовались мнения экспертов полиции и популярной прессы, таких как Ллойд Мартин, и серия статей в Чикаго за май 1977 года Tribune. Статья в Miami Herald от 12 апреля 1966 года рассказывала о двух округах Дейд, детективы шерифа, совершающие обход школ и отделений по работе с детьми, утверждают, что “в школах действует одна из основных систем вербовки [гомосексуалистов]” (Брайант 1977: 119). Тони Раймондо, сотрудник отдела по работе с молодежью, сказал
Люди обычно предполагают, что that...it это случай, когда пара парней живет вместе и никого не беспокоит. Это просто не так. Пара парней может какое-то время жить вместе, но в конце концов одному из них это надоест и он отправится на поиски новых развлечений. Он отправится на поиски парня; он начнет занимать место отдыха на автобусной станции комнаты или что-то еще, или станет бойскаутом или лидером юных скаутов (стр. 117).
Героизм приобретает решительный популистский оттенок, связанный с родительским долгом. Большинство верований Брайанта являются частью “протестантского примитивизма”, традиции, которая создала “естественный закон”, основанный на божественных наставлениях. Это было довольно популярно в 18 веке и сформировало один из элементов либеральной мысли, хотя к 19 веку эта точка зрения начала порождать антиплюралистические тоталитарные движения, основанные на параноидальных подрывных убеждениях (Биллингтон, 1938). Руссо облек этот аспект в форму в "Элоизе" (1810, книга 1:4).:
[Если люди] не установят границ природе, монстры, гиганты, пигмеи и химеры всех видов могут быть специально допущены в природу... мы должны различать разнообразие человеческой натуры и то, что для нее существенно.
Эта “сущностная” природа стала гетеросексуальной англо-христианской цивилизацией; все остальное было дегенеративным и извращенным. Брайант попыталась сделать то, что считалось новым поворотом, который оправдал бы ее от обвинений в фанатизме и преступлениях на почве ненависти: она и ее крестоносцы сказали, что они “ненавидели грех, но любили грешника”. Таким образом, можно было бы проклинать со всем пылом сторонников возрождения, но выдающих себя за милосердных спасителей, предлагающих религию любви и прощения. Эта концепция - еще одна старая, популярная когда-то среди катаристов (истребленных доминиканцами во время альбигойских крестовых походов), уходящая корнями в некоторые манахианские доктрины, согласно которым считалось, что маленькие частицы добра заключены в более крупных сущностях зла (Young 1966: 166). Крестовый поход Брайанта пришелся на конец антикультовой паники 1970-х годов и предшествовал более масштабным эротофобским кампаниям 1980-х годов, преемственность ненависти, страха и сексуального возбуждения, которые стали характерными для истерии сексуального насилия над детьми 1980-х годов.
Даже когда в 1980-х годах педофил был создан как более восприимчивая и приемлемая мишень, конгрессмен Уильям Даннемейер продолжал возлагать на гомосексуалистов ответственность за уничтожение молодежи. Он беспокоился, что психологический истеблишмент придет к убеждению, что “растление малолетних” - это всего лишь другой вариант человеческой сексуальности. Он чувствовал, что “большинство людей в Америке были вежливы и готовы принять гомосексуалистов в свою среду (1989:89, 135f) - Пытаясь защитить свою позицию от тотального фанатизма, он далее утверждал (неверно, как мы видели), что “никто никогда не утверждал, что просто быть черным или женщиной аморально” (стр. 137), и (также неверно) что никогда в истории в христианской церкви евреи или христиане говорили, что секс греховен (стр. 109). Но он оставался тверд в своей священной войне: “Мы должны либо победить воинствующию гомосексуальность, либо она победит нас. Эти люди ясно дали понять: они не оставят нам третьего выбора” (стр. 18).
В этом и заключается дилемма для тех религиозных людей, которые искренне гомосексуалисты, гомосексуалисты верят в помощь своим братьям и сестрам-гомосексуалистам. С одной стороны, эта жалкая часть нашего сообщества [гомосексуалисты, а не религиозные люди] отчаянно нуждается в любви и понимании. Но, с другой стороны, их сводит с ума сама мысль о том, что они совсем не нормальные и счастливые. ... Поэтому, чтобы помочь им, мы должны сначала проникнуть за риторическую стену, которую они возвели вокруг себя, а затем убедить их, что они ненормальны или здоровы, но на самом деле нуждаются в значительной поддержке. (стр. 90)
Вскоре после выхода книги Даннемейера была опубликована другая, почти в том же духе, в которой Эйхель и Мьюир полагали, что “педофилы, возможно, были лидерами гей-движения” (Reisman and Eichel 1990: 213). Впервые в их книге это, по-видимому, близко к реальной ситуации. Исследование Фридрайха Кронке и других показало, что многие гей-активисты в Германии 1930-х годов были “педерастами”, то есть мужчинами, интересующимися мужчинами-подростками.[29] В 1990-х годах кампании против гомосексуалистов продолжались, и некоторые из них были успешными. Одной из самых известных была кампания в Орегоне, возглавляемая христиан-фундаменталистами, как и большинство подобных движений. Гомосексуальность снова ассоциировалась с растлением малолетних, хотя это не было таким главным направлением, как в конце 1970-х. Но Альянс граждан штата Орегон (OCA) распространило более 2000 копий видеоролика под названием “Права геев?” в котором были показаны кадры гей-парада 1989 года с присутствием НАМБЛЫ, заявив, что это доказывает, что гомосексуалисты охотятся за детьми нации:
Продолжается вербовка. На самом деле, вы можете прочитать это в манифесте гомосексуалистов, и это ясно как божий день, мол, мы хотим вашего молодого человека. Здесь прямо об этом сказано. Я имею в виду, что я должен сказать? Хорошо, вы можете их забрать? [30]
В довольно коварной телевизионной рекламе, подготовленной OCA, социальный работник говорит 7-летнему мальчику, что государство не может помешать гомосексуалистам усыновлять детей, а затем выводит его на улицу, где он сталкивается с двумя мужчинами. Мальчик жалобно спрашивает: “Но где моя мама?” (Ричардсон, 1992b). В 1990-х годах была более полно разработана тактика, использованная в Калифорнийской войне 1978 года Инициатива Бриггса (предложение 6), которая стремилась уволить любого школьного работника, который “выступал за, домогался, навязывал, поощрял или пропагандировал частно или публично гомосексуальную активность, направленную на гомосексуалистов или, вероятно, привлекающая к себе их внимание, это означало устранение моральных устоев школьников и/или других сотрудников, политические взгляды, которых противоречили другим политическим взглядам и были направлены не только против гомосексуалистов, но и против кого-либо еще. Часть “культурной войны” религиозных правых 1990-х годов, это было движение, замеченное в нескольких штатах не только для уничтожения людей (хотя оно также делало и это), но и направленное на регулирование идей; не отмечено Дагган и Хантер (1995: 128ff) заключаются в том, что он также пытался ограничить научные исследования и их распространение.
IV
Необходимо упомянуть еще несколько изображений, представляющих угрозу для детей, поскольку они имеют общие черты с растлителями малолетних. Одним из основных и постоянных образов является образ наркомана. Большая часть энергии антинаркотических кампаний, начиная с конца 19-го века и по настоящее время, была направлена на молодежь, а в последнее время и на детей дошкольного возраста, предполагаемую мишень гангстеров, террористов, извращенцев и других демонов. Ко времени первой мировой войны в массовом сознании и сознании профессионалов утвердились необходимые и неизбежные связи между распространением наркотиков, бандитизм, секс, насилие и разорение детей. Демонстрация угроз в адрес молодежи сохраняет в высшей степени последовательную основную образность, придавая ей образное (в рамках жанра) графическое изображение (Silver 1979; Палмер и Горовиц, 1982). Директор полиции Хьюберт Уильямс (1986) называл потребителей наркотиков “бичами, бездельниками”, распространителями болезней, плохими водителями, некомпетентными работниками, обладателями низкой “самооценки” и частью мирового сообщества наркотическая “чума” и заговора.[31] Смешение сексуальностей были обычным явлением, когда употребление наркотиков разрушает сексуальные границы. Ссылаясь на случай, когда подростки нюхали клей, доктор Джейкоб Сокол сказал, что результатом стал гетеросексуальный и гомосексуалистический секс между детьми, а также секс со взрослыми, которые навязывали подросткам клей.[32]
Политические столкновения также породили образы монстров, угрожающих детям. В 1980-х годах это слово стало синонимом арабов и Латиноамериканцов, в основном левые, хотя в начале 1990-х годов, наконец, произошло общественное признание правого терроризма после десятилетий игнорирования такой деятельности. Террористы представляют угрозу для детей, поскольку их действия иррациональны и случайны, что позволяет ссылаться на “невинных жертв"; фотографии раненых и мертвых детей были очень популярны.[33] Некоторые считают, что террористы предпочитают детей в качестве жертв из-за шоковой ценности. Женщины-террористки особенно демоничны, поскольку для того, чтобы самоутвердиться, они “с большей вероятностью убивают детей” (Rivers 1986:19). Эта фигура была удачно использована в сочетании с образами жестокого обращения с детьми. Гоулман (1986) утверждал, что террористы подвергались жестокому обращению в детстве; аналогичным образом, поскольку террористы являются растлителями детей, жестокое обращение с детьми, также относилось к терроризму (Wooden 1985b: 54). Подобные угрозы были популярны в течение десятилетия, и художественная литература усилила образность (например, в осаде, Барк, 1986). В романе Хантера (1989) террористы (которые, как оказалось, не связаны с политикой гангстеры) похищают, пытают, насилуют и убивают детей богатых промышленников.[34]
Коммунисты были популярной мишенью для воплощения угроз детям; в 1950-х годах и вскоре после этого, как говорили, они особенно стремились привлечь молодежь на свою сторону. В начале и середине 1950-х Харви Матусов дал показания (ложные) правительственным комитетам (повторенные некритичной прессой) о том, что Коммунисты были активны в бойскаутах, использовали секс для завлечения детей и переписывали тексты матушки гусыни для идеологической обработки молодежи Америки.[35] Во время американских и Британской паники 1950-х годов по поводу содержания и влияния комиксов были обвинения в том, что коммунисты используют их для развращения молодежи. Связанные с коммунистами как с “попутчиками”, либеральные учителя подверглись чистке из-за страха их влияния на детей. Угрожающий детям образ, который сейчас почти полностью забыт, был очень эмоциональным, когда его изобрели: гунн, калечащий детей во время Первой мировой войны. В начале войны в 1914 году лондонская "Таймс" опубликовала карикатуру на безрукую девочку, поднимающую в воздух окровавленные культи, изображающие жертв о немецкой агрессии в Европе. Фотография разжигала военный пыл и увеличивали вербовку, но, несмотря на несколько опровержений, в изображение продолжали верить как в факт на протяжении всей войны и еще долго после нее. Другим известным изображением был плакат 1918 года, “Помни Бельгию” Эллсворта Янга, на котором был изображен силуэт гунна, уводящего молодую женщину (Ролз 1988:28). Гриффитс (1986:26) воспроизводит плакат с изображением гунна, нависающего над изуродованным телом мальчика. Вирек (1930:216) показывает иллюстрацию “Дорога к славе”, на которой изображен мальчик, заколотый штыком в канаве, окруженный пустыми бутылками из-под ликера; изнасилованная девушка находится дальше по дороге, в конце которой находится горящий город. Другим довольно популярным изображением была горилла в Униформа гунна, стаскивающего молодую женщину.[36]
Различные изображения угроз детям включали полицию, врачей, социальных работников и молодежные банды. В то время, как время от времени возрождается идея о том, что полиция представляет угрозу для молодежи, поскольку молодежь была “спасена” от семей и педофилов только для того, чтобы стать еще хуже, чем раньше, в другой раз выяснилось, что такое отношение преобладало. В Париже в 1749-50 годах распространилось большое количество слухов о том, что полиция переодевалась и похищала молодых людей (в основном мужчин) для отправки во французские колонии для работы и увеличения численности населения (на самом деле так было во Франции примерно с 1660 года до начала XVIII века). Поступали сообщения о том, что люди видели, как ведьмы накладывали чары на детей, о женщинах, “развращающих” детей, и о прокаженном принце, которому для излечения требовалась детская кровь; население было уверено, что он и ему подобные ним были реальны и охотились (Фарж и Ревел, 1991).
На протяжении 1980-х годов существовало небольшое, но энергичное движение против обрезания, сила, которая добилась значительных успехов в сокращении числа случаев обрезания в Соединенных Штатах, хотя эта проблема и движение в целом игнорировались средствами массовой информации. Врачи, проводившие процедуру, стали злодеями, обвиняемыми в жестоком обращении с детьми. Распространился ряд страшных историй, наиболее заметными из которых были два инцидента в той же больнице Атланты, штат Джорджия, в 1985 году, когда врачи Лерой Мойер и Х. Фред Гобер, как говорили, провалили свои операции, так что Гобер серьезно, что ребенку пришлось сделать операцию по смене пола, потому что пенис был поврежден безвозвратно. Оба урегулировали гражданский иск во внесудебном порядке, оба получили выговор от Государственной медицинской комиссии, но ни один из них не был арестован, судим или заключен в тюрьму за жестокое обращение с детьми. Им разрешили продолжать делать обрезание (Anonymous 1987d).
В конце 1980-х и начале 1990-х годов призрак молодежных банд возник снова и стал популярной темой для индустрии развлечений. Телефильм "Разбитые ангелы" (с Эрикой Элениак) должны были показать молодых подростков, соблазненных бандой и наркотиками; фильм 1988 года был выпущен на видео пять лет спустя. Для одного доктора философии (образование) и главы частного молодежного агентства все клише о педофиле служили отличным средством выражения страха, стигматизации и потенциального спасения детей, находящихся в опасности. Говорили, что банды насилуют малолетних в качестве обряда инициации. “Прямо сейчас в его городе члены банды ищут молодых невинных девочек предподросткового возраста”, - сказала она. Детей соблазняют образами гламура и возбуждения присоединиться , но затем используются угрозы насилия. чтобы удержать их в банде. Банды похищали детей из кинотеатров и торговых центров. Похищенным детям говорят, что их родители их больше не любят, но банда любит. Процесс идет от “промывания мозгов”, наркотиков, изнасилования пожилыми людьми, затем изнасилование полудюжиной или более членов банды, “некоторые из которых, как известно, больны СПИДом или другими заболеваниями, передающимися половым путем”. Затем цикл начинает повторяться: “Эти невинные дети, которых уничтожают физически и психологически, если они не получают помощи, становятся вербовщиками, которым нужно подружиться. Затем автор мобилизовала родителей для обеспечения соблюдения законов о других подростках… законы о комендантском часе и требовать раскрытия скрытой правды о проблеме. Они должны следить за своими детьми на предмет признаков принадлежности к банде и травм (Родригес 1992; Кевер 1992а). Другой эксперт сказал “комната, полной женщин со слезами на глазах”, что банды возникают из-за распада семьи и “бомбардировки общества материалами сексуального характера” (Garcia 1992). Репортаж на Национальном общественном радио (16 февраля, 1993) говорилось о “хорошенькой 13-летней девочке, чье невинное личико противоречит ее уличному опыту”, означающий, как это часто бывало в прошлом, что более молодой человек знает больше, узнает об этом раньше и сделал это раньше, чем шокированный взрослый считает нужным. Репортер, не имеющий представления о классе, сказал, что девочка может говорить о бандах в той же манере, в какой большинство подростков говорят о спорте, снова подразумевая уставшего от мира и израненного в боях ребенка, по сравнению с эдемским прошлым, где таких вещей никогда не случались.
Наконец, существенной угрозой для детей был религиозный лидер и в 1980-х годах участились обвинения в адрес католических священников и другого духовенства за секс между молодежью и взрослыми, в основном с участием молодых мужчин; по распространенным оценкам, от пяти до шести процентов католических священников были педофилами.[37] Исторический обзор Дженкинса (1996), хотя и содержит эпизодические извинения и оправдания за критический взгляд, предлагает важные документы о том, как преувеличивались “культы”, образ растлевающего духовенства пропагандировался, особенно новостными и развлекательными учреждениями. В то время как он справедливо уделяет большое внимание средствам массовой информации другим социальным и политическим проблемам того периода, неистовство, с которым реклама “хищного священнослужителя” была в немалой степени вызвана смущающей критикой и провалом проблемы "пропавших детей", а также заговорами о дневном уходе и сатанинском насилии. Новый поворот с доказательствами, не запятнанными критикой и опровержениями, был необходим для реабилитации политической теории, экономической карьеры и профессиональной репутации. Это также было частью продолжающегося поиска культурой нового скандала и повторного применения мотива “скрывающегося фасада”, который так заметно фигурировал в прошлых обвинениях и разоблачениях. Хотя и предварялся его дискомфортом с загрязняющим языком того периода и признавая (для него незначительную) возможность взаимовыгодных отношений, Дженкинс все еще сохраняет лексику оскорблений, характеризующую весь секс между взрослыми и молодежью, и тратит некоторое время на то, чтобы перевести отношения молодежи и священника с “педофилии” на менее известную эфебофилию (1996: 78ff); как и большинство "за" или "против" того времени, он допускает сохранение концепции педофила, заслуживающего сурового наказания.
Эти события, по-видимому, были частью приливной волны педофилии, захлестнувшей цивилизованное общество, но это не было новой проблемой; всегда существовала сильная тема в американских и европейских антиклерикальных традициях священников, вступающих в сговор с целью лишить девственности девушек. Хиллиард цитирует редакционную статью британской газеты, ранее напечатали любовное письмо, предположительно отправленное братом-монахом юноше из хора:
..скопление мужчин в одном здании, время от времени впуская туда молодых девушек — некоторые из них болезненные, некоторые глупые и сентиментальные, — а также мальчиков с мягким, чувствительным темпераментом, не может не вызывать отвращения. (1982:192)
Хиллиард рассматривает ряд скандалов того времени, связанных со “священниками, которые были известны своей замечательной способностью работать с парнями и юношами мужского пола. Возможность моральной опасности была широко признана, сам католицизм был настороже, и трактат 1922 года предостерегал священников от дружбы с женщинами и от “неоправданной близости с мальчиками” (Hilliard 1982: 195). Самый известный эпизод такого рода был показан на процессе над Оскаром Уайльдом в 1895 году. ”Священник и послушник" - рассказ, приписываемый Уайльду, но, по-видимому, написанный Джоном Блоксамом в 1894 году; это была история о священнике, влюбленном в 14-летнего юношу, рассказанная со всеми замечательными чертами сентиментализма конца 19-го века (перепечатано в Reade 1971: 349-360).
С середины 1960-х по 1970-е годы в Америке сформировался ряд новых религий, которые многое рассказывают нам о происхождении религии и о том, как люди стали мифологизироваться и превращаться в божественные фигуры. Старые секты называли эти религии “культами” и подвергали их жестоким нападкам. Было распространено огромное количество полемики, в основном с использованием языка психического здоровья, такого как “извращение”, “отклонение от нормы”, и так далее. В частности, антикультовые движения были сосредоточены на утверждениях о том, что “детей” похищали и/или совращали к странному образу жизни и верованиям. Циркулировали многочисленные свидетельства и рассказы о “промывании мозгов”, а эмоциональная травма преподносилась, как свидетельство личной и социальной деструктивности культов. “Депрограммирование” стало важным мероприятием для спасения детей.[38] Большая часть этого была развенчана, хотя и не без некоторых усилий.[39] Примерно с середины 1970-х годов антикультовое безумие помогло сформировать многие темы и образы, а также социальные и политические отношения, которые были бы направлены против педофила 1980-х годов. Развлекательные СМИ были в восторге от этой темы, эксплуатируя культовую тему до тех пор, пока в начале 1980-х рынок не рухнул и их место не заняли изображения заговоров педофилов. Культовые страхи вновь возникли позже в этом десятилетии, подпитываемые историями о “ритуальном насилии”, и распространились на 1990-е годы, используя сатанинское сексуальное насилие над детьми для усиления своей угрозы и “восстановленные воспоминания” для подтверждения своих заявлений.[40]
Идея “вторжения и захвата индивидуальности и свободы воли человека зловещей антиобщественной силой” (Шупе 1987: 211) лежит в основе давней традиции американской паранойи. Как и в случае с другими паникерами, группа самозваных экспертов заявила о своей способности отличать членов культа от не-членов культа на основе физических и психологических признаков. Непосредственно связанных с этим предположением об экспертизе является заявление властей об экзорцизме.[41] Эксперты хотели депрограммирования детей по решению суда, вмешательства государства для спасения членов семьи и психиатрического лечения (Delgado 1980; см. также Bates 1978). Патрик сказал, что детей иногда вербуют с помощью “гипноза на месте”, их разум разрушается, когда они присоединяются к культу, превращаясь в зомби или самоубийц. Членами культа становятся настолько истинно верующими, что все они являются потенциальными убийцами. Он хотел, чтобы все лидеры культов были арестованы, и чувствовал, что либералы ошибочно защищают их в соответствии с Первой поправкой, положением, которое культы использовали для “изменения сраны.”[42] Годом ранее Конвей и Шпигельман (1978) опубликовали Щелчок: американская эпидемия внезапных изменений личности, предсказывающая в 1980-е годы появятся “Мощные техники убеждения, обращения в свою веру и контроля сознания” (Шпигельман и Конвей, 1979b). Был хороший рынок для рассказов о культе соблазнения и связывания, ставший обычным явлением к концу 1970-х годов.[43]
Многое из того, что перекликается между культовыми страхами 1970-х годов и паникой по поводу жестокого обращения 1980-х, можно найти в отчетах о культе Джима Джонса. Когда в джонстаунскую группу проникли политики и развлекательные СМИ, в ноябре 1978 года произошло массовое самоубийство, в котором приняли участие 276 детей. В его описании из жизни культа, Вуден (1981: 12ff) сказал, что были сообщения о том, что он слышал, как дети плакали от боли и порки; он сказал, что сам Джонс получал сексуальное удовлетворение, избивая мальчиков. Также утверждалось, что Джонс изнасиловал 15-летнего мальчика и некоторое время состоял с ним в любовной связи. Предполагалось, что пятнадцатилетние девушки работали проститутками, чтобы обеспечивать доход культа. По словам Вудена, другим дисциплинарным методом для детей было принуждение их мастурбировать и/или заниматься сексом с кем-то, кто им не нравился, на глазах у собравшихся членов культа. В рамках сатанинской паники по поводу ритуального насилия в конце 1980-х годов флоридская группа, известная как The Finders, была обвинена, как обычно, с большой помпой в средствах массовой информации, в производстве фотографий детского секса и ритуальном насилии (Nordheimer 1987). Отсутствие доказательств свело дело на нет, хотя журналисты практически не уделили этому событию внимания. Христианская секта, известная как "Семья" (ранее "Дети Божьи"), также была обвинена в сексуальном насилии, детской проституции и употреблении наркотиков; в нескольких странах в их домах были проведены обыски, а дети изъяты. Правительство Буэнос-Айреса заявило, что 268 детей там были “порабощены” “сексуальным культом”, плохо одеты и накормлены, а также использовались в детской эротике. На фотографии, сопровождающей газетные статьи (Nash, 1993), показаны тесные помещения (не хуже, чем в летнем лагере), и о детях, похоже, хорошо заботятся; показанные по телевидению фрагменты предположительно порнографических видеороликов, изъятых там, мало чем отличались от многих обычных родительских записей.
Лидер культа как педофил вновь появился в начале 1990-х годов, когда Дэвид Кореш, лидер группы приверженцев ветви Давида, был обвинен в сексуальном насилии над детьми. Штат использовал это обвинение, чтобы оправдать рейды ФБР и Бюро по борьбе с Алкоголем, табаком и огнестрельным оружием (ATF) на комплекс Дэвидиан в Уэйко, Техас. Последний рейд, приведший к гибели почти 20 детей, был санкционирован генеральным прокурором США Джанет Рено на основании сообщений о жестоком обращении с детьми, несмотря на то, что никто (включая директора ФБР Уильям Сешнс) не видел никаких свидетельств физического или сексуального насилия. Официальные лица и журналисты преуменьшили ответственность правительства за гибель детей и поспешили возложить вину на самого Кореша (Стинсон 1993, Мартин 1993, CNN Главные новости, 22 апреля 1993). В “мгновенных” книгах журналистов, появившихся после резни, содержались утверждения о том, что Кореш занимался сексом с 12- и 14-летними девочками (в то время как они были его женами и допускались его религией).[44]
Одной из причин умножения изображений угроз детям является оправдание социальных действий, направленных, на первый взгляд, на спасение детей, но более глубоко направленных на оправдание и установление отношений между отдельными лицами, группами и государством, которые находятся в соответствии с сектантскими политическими устремлениями. Сочетание социальных изменений и напряженности среди влиятельных предпринимателей, всегда особенно динамичное и впечатляющее в Соединенных Штатах, помогает создавать реформаторские движения с удивительным сочетанием просветительской и деструктивной направленности.
4
ДЕТИ И РЕФОРМАТОРСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
I
Одной из первых кампаний за чистоту, затронувших молодежь, было движение за трезвость. Американские аргументы против спиртных напитков звучали с 1770-х годов вплоть до катастрофического сухого закона 1930-х годов, а затем вновь появились в рамках “Войны с наркотиками" 1980-х годов. К 1830м годам движение перешло от пропаганды умеренности к требованию полного воздержания, абсолютного отрицания какой бы то ни было ценности алкоголя - и к стигматизации потребителей и продавцов. Алкоголь стал главной причиной и объяснением всех социальных бед, и большинство экспертов предположили, что это прямая связь между употреблением алкоголя и “непристойным” или “аморальным” поведением и установками (Браун 1940). Эта кампания была одной из первых, в которой утверждалось, что дети, женщины и семья являются главными мишенями зла, и именно от их имени действовали группы бдительности и были приняты законы, которые значительно повысили авторитет государства в обеспечении соблюдения партикуляристских моральных позиций. Общество было наводнено образами коварных пьяниц и продавцов спиртных напитков, плачущих и умирающих детей как жертв и спасителей, а евангелистов - как героических крестоносцев.[1] Детей организовывали в “Армии трезвости” и проводили религиозные антиалкогольные инструктажи в государственных школах. Движения за трезвость породили наибольшее количество полемики, специально направленной против детей (Macleod 1975:108), вплоть до войны с наркотиками и истерии сексуального насилия 1980-х годов.
Эксперты рекламировали никотин как панацею от всех болезней вплоть до 18 века; первое движение против курения появилось в 1830-х годах, но угасло в середине века.[2] Сигареты часто называли “маленькими белыми работорговцами”, а курение рассматривалось как опасное. Считалось, что курение приводит к пьянству, распущенности, проказе, ненормативная лексика и чтение романов рассматривались как путь к употреблению других наркотиков, таких как опиум и гашиш. К концу 19-го века 14 штатов объявили вне закона продажу, производство, хранение и рекламу сигарет, а 26 штатов объявили вне закона продажу сигарет несовершеннолетним (по-разному определяемым как от 14 до 24 лет). Существовал продукт под названием “No-To-Bac”, который должен был помочь бросить курить, а также просто избавиться от зависимости. Кампания с более длительной историей и более высоким уровнем интенсивности была одной из тех, кто выступал против употребления наркотиков, начиная с 19-го века и по настоящее время. Помимо антиалкогольной полемики, в антинаркотических текстах присутствует саморекламируемая забота о “детях” как жертвах.[3] Я использую этот термин в кавычках, потому что объекты внимания варьировались от подростков до студенческой молодежи, но термин “дети” используется всегда. Учащимся начальной школы уделялось непропорционально большое внимание в антинаркотических видеороликах, и большинство антипедофильских тем, рассмотренных до сих пор, присутствовали в антинаркотических кампаниях (Silver 1979; Starks 1982; Инчиарди 1986: 91-104). В 1930-х годах ажиотаж против марихуаны усиливался благодаря обычному сотрудничеству между государством и индустрией развлечений. Одной из ведущих фигур, подпитывающих то, что считается созданием псевдовыпуска, был Гарри Дж. Анслингер, комиссар США по борьбе с наркотиками.
Как и другие наркотики, марихуана сначала ассоциировалась с насилием и преступностью, распространяясь среди представителей низших классов и небелого населения в белых сообществах. Химмельштейн проанализировал статьи с 1890 по 1963 год и обнаружил, что 57% анти в публикациях о наркотиках в популярной прессе упоминалась связь марихуаны с насилием и что 10% респондентов приписывали наркотические элементы “разврата”. Как и во всех культурно сфабрикованных проблемах, позже акцент резко изменился на “пассивность”, с почти исчезновением ее связи с эротической активностью; Химмельштейн называет произошедшее после 1963 года переход от “травы-убийцы” к “наркотику, от которого отказываются” (1983: 63, 121ff). В самой известной статье Анслингера “Марихуана, убийца молодежи” (1937) он начал со ссылки на случай с молодой девушкой, которая разбилась насмерть, выпрыгнув из здания во под влиянием растения - история, ставшая частью антинаркотических знаний (Gard 1938), и тип сказки, нашедший отклик в фольклоре о сексуальном насилии над детьми.[4] Безумные убийства и “дегенеративные сексуальные нападения” на детей со стороны помешанных на наркотиках извергов часто были связаны (Гард 1938; Лич 1939). Как приобщение к сексу для подростков, марихуана подавляет сознание молодежи, и они становятся “рабами”. Молодых девушек толкают на беспорядочные половые связи и проституцию, а мальчиков - на преступления, чтобы поддержать их привычки (Анслингер и Оуслер 1961: 187; Брин 1951).
Анслингер сначала настаивал на том, что употребление наркотиков возросло среди детей, но позже, когда “преступность несовершеннолетних” стала главной проблемой 1950-х годов, он утверждал, что это были “поздние подростки” (Анслингер и Томпкинс 1953: 166). Он чувствовал, что происходит переход от экспериментов к зависимости, а затем к смерти в ужасных (но занимательных) способах. Он был уверен, что молодых пользователей можно распознать по определенным признакам, таким как раздражительность, неразумность и “трудноуправляемость” (1951b; 1937; Brean 1951); большинство пользователей были из бедных и неблагополучных семей, ухудшение состояния семьи было главной причиной (1951a). Дилеры распространяют “убивающий душу яд” через сложные международные организации; остановить их представляло собой “титаническую задачу” для перегруженных работой агентов (1951b; 1964). Суды были слишком снисходительны, и требовались более суровые наказания. Малолетних и подростков вовлекали в проституцию с использованием наркотиков, часто небелыми иностранцами, такими как китайцы. Что еще хуже, дети вовлекают других в употребление наркотиков. Молодые подростки создают “притоны марихуаны”, где они курят наркотик, вовлекают детей в непристойные действия или замышляют преступления (1951a, 1951b; Card 1938). Особенно нравилось ассоциировать подростков и межрасовые пары со сценами невыразимой сексуальной развращенности.”[5]
Связь употребления наркотиков с сексуальным насилием над детьми была установлена в художественной литературе 1980-х годов и популярных фактах. Один из пиков антинаркотической агитации (1985-86) шел сразу же по пятам за пиком истерии сексуального насилия над детьми в 1984-85 годах.[6] Ранняя символическая ссылка была сделана в статье Джанет Кук в Washington Post в 1980 году, история восьмилетнего подростка, подсевшего на героин. На рисунке грустный большеглазый мальчик смотрит вверх, когда бойфренд его матери связывает его, и текст гласит: “Он хватает Джимми за левую руку..., его массивная ладонь плотно обхватывает маленькую конечность ребенка. Игла вонзается в нежную кожу мальчика...” Это классический материал, и Кук получил Пулитцеровскую премию в апреле 1981 года за эту работу. Тот факт, что чуть больше недели спустя она призналась, что персонаж и инцидент были сфабрикованы, должен означать, что она не заслуживала награды. Она сделала именно то, что всегда делали журналисты: рассказала историю (какой бы банальной она ни была), которая нашла отклик в эмоциях и ценностях ее рынка, и определила проблему с определенной идеологической точки зрения. Она ничем не отличалась от других журналистов, рассказывавших о том времени, подобном многим другим в американской истории, когда разум и критические способности вообще не представляли никакой развлекательной ценности.[7]
Нэнси Рейган популяризировала лозунг “Просто скажи нет” в начальной школе Калифорнии в 1985 году, а в следующем году был учрежден фонд "Просто скажи нет". Одной из выдающихся особенностей кампаний 1980-х годов было широкое вовлечение рекламной индустрии. Предполагалось, что более 200 рекламных агентств присоединятся к Партнерству за Америку, свободную от наркотиков (основано в 1986 году), и будут конкурировать за создания того, что, по их мнению, было бы “нелицеприятными” сообщениями, которые уничтожили бы употребление наркотиков, - “крупнейшее информационное усилие, когда-либо предпринимавшееся средствами массовой информации США” (Sloan 1987). Большинство крупных корпораций, в дополнение к введению обязательного тестирования на наркотики для своих сотрудников, в спешке присоединились к спонсорской рекламе, многие из которых распространялись через школы. Массовая рассылка “Просто скажи нет”, проведенная компанией Proctor and Gamble в 1987 году, была направлена более чем в 47 миллионов домов, демографически отобранных на предмет присутствия лиц младше 18 лет. Хотя она была нацелена на разные рынки, каждый из которых был тщательно исследован, якорь для рекламы во всех случаях предназначался для детей дошкольного возраста. Как и большинство рассказов о сексуальном насилии, антинаркотическая реклама была основана на страхе. Один специалист по маркетингу сказал, что антинаркотическая кампания середины-конца 1980-х годов была “косвенным повторением кампаний ”Пропавшим детям — нет", отметив, что усилия по борьбе с наркотиками "были благом для корпораций, производящих наборы для тестирования на наркотики, больниц, предлагающих программы реабилитации наркоманов, и антинаркотических кампаний, разработанных чтобы увеличить продажи продукции, тиражи газет или рейтинги телевизионных новостей” (Agnew, 1987).
К концу 1980-х годов учебные программы по борьбе с наркотиками были прочно внедрены. В большинстве штатов требовалось своего рода “просвещение по вопросам злоупотребления психоактивными веществами” в государственных школах, отчасти как способ удовлетворения федеральных требований для получения права на финансирование. Как диктовали в правительстве, правила были простыми и недвусмысленными.[8] Позиция “не использовать” была установлена как абсолютная с самого начала. Точка зрения “ответственного использования” отвергается, и инструкторов предупреждают следить за “замаскированными” версиями этой “теории” (Наркотик..., стр. 100). Ничто не должно противоречить однонаправленному потоку официальных фактов и инструкций, следовательно, недопустимо “открытое принятие решений”. Обсуждение личного опыта не допускается, и “неразумно позволять учащимся давать советы другим...” (стр. 13). Чтобы обеспечить соблюдение инструкций, личные уязвимости используются для привития доктрины;
Ничто так не привлекает внимание учеников младших классов средней школы, как осознание того, что они могут выглядеть нелепо, плохо пахнуть, могут быть неспособны заниматься спортом, могут стать непривлекательными или могут не развиваться физически или сексуально. (стр. 22)
Кроме того, дети до третьего класса должны быть проинструктированы о том, “как избегать незнакомцев” и “как осознавать свою ответственность за то, чтобы рассказывать соответствующим взрослым о незнакомцах” (стр. 15). В ходе значительных антинаркотических кампаний 1980-х годов дети использовались для прекращения употребления наркотиков взрослыми. Для большинства детей самые близкие и привычные взрослые были их родителями. В 1986 году 13-летняя девочка заявила на своих родителей за употребление марихуаны и кокаина. Родители были арестованы, а девочку забрали в приемную семью, затем поместили в окружной приют, а затем через некоторое время отпустили. Девочка получила “бешеное количество” предложений сняться в фильме по ее сюжету, причем более дюжины компаний конкурировали с предложениями на сотни тысяч долларов (Каммингс 1986). В сентябре того же года 13-летний мальчик сдал своих родителей (Сланский, 1989). Некоторое время спустя 5-летняя девочка рассказала своей учительнице о своем употребление матерью наркотиков; мать была арестована, а девочку поместили в приемную семью (Анонимно, 1986d). В 1988 году Marvel Comics group совместно с Национальной ассоциацией помощи детям алкоголиков, Министерством здравоохранения и социальных служб США и корпорацией Southland Corporation предприняли попытку призвать школьников обратиться за помощью, если они чувствуют, что их родители употребляют алкоголь “слишком много” (Reed 1988). Несколько семей в Сан-Антонио, штат Техас, сообщили мне в середине 1992 года, что учителя спрашивали учеников, курят ли их родители, выпивают ли они или курят “необычные” сигареты. Как в качестве контрмеры родители могли заказать набор для скрининга на наркотики в Институте Америки, свободной от наркотиков, который включал список вопросов, которые родители могли задать своим детям, и записать ответы на магнитофонную ленту. Родители могли бы отправить кассету (и 25 долларов) по почте в институт, который проанализировал бы ответы ребенка, используя “самые современные инструменты для обмана” (Harper's, том 284, № 1704 -май 1992 г., стр. 22).
В конце 1980-х произошел сдвиг от защиты всех детей от наркотиков к восприятию некоторых детей как угрозы для других детей. Реклама, размещенная Партнерство за Америку, свободную от наркотиков, приводит несколько примеров, одним из которых является фотография группы смеющихся учеников начальной школы со слоганом: “Можете ли вы найти на этой фотографии торговца наркотиками?” ("Нью-Йорк Таймс", 9 ноября 1995 г., стр. С-8). В тексте говорится: “Пугает то, что ребенка, скорее всего, подтолкнет к наркотикам какой-нибудь невинно выглядящий одноклассник”. Периодически в конце 1980-х годов распространялись сообщения о том, что ЛСД продавался или давался школьникам в виде татуировок или штампов с изображениями таких фигур, как Супермен, диснеевские персонажи и клоуны. В листовке, распространенной в 1990 году полицейским из Сан-Антонио, штат Техас, в свободное от службы время, перечислялись татуировки и симптомы (“некоторые из них пропитаны СТРИХНИНОМ”). В нем читателей предупреждали, что дети могут впитать наркотик, просто прикоснувшись к татуировкам, и у них может случиться “ФАТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ”. Он сказал: “маленьким детям могут бесплатно сделать "ТАТУИРОВКУ"и другие дети, которые хотят немного развлечься, привлекая новых клиентов без ведома ребенка” (sic).[9]
Выделяя самый печально известный наркотик 1980-х годов - крэк-кокаин, Буза утверждает, что “сексуальное насилие над детьми является обычным явлением в культуре крэка, поскольку мужчины ведут себя жестоко, а женщины продают своих дочерей в проституцию, чтобы собрать отчаянно необходимые средства на наркотики”. Наркотики любого рода, по его мнению, были причиной жестокого обращения с детьми (1992:47ff). Он представил на суд читателя большое количество случаев “детских наркоманов”, большинство из которых находятся в возрасте от среднего до позднего подросткового возраста (стр. 91-123). Эти изображения использованы потому, что они знакомы и легко понятны из их длительного исторического присутствия в культуре, а также потому, что использование таких образов давно стало институционализированным как способы выражения взглядов и действий, необходимых для идеологического поддержания общества (Szasz 1985). Хотя движения за легализацию наркотиков, по крайней мере марихуаны и психоделиков, на короткое время получили большее признание в конце 1980-х, популярные СМИ продолжали объединять все запрещенные наркотики, некритично использовать фразу “связанные с наркотиками” всякий раз, когда полиция предлагала ее в качестве объяснения преступления, и продолжали помогать полиции наказавать потребителей наркотиков путем объединения их в единый социопатический тип характера. В конечном итоге, как это часто бывает с рекламой, многие “факты” были разоблачены как мошенничество, а изображения превратились в фарс.[10] Знаменитое изображение употребления наркотиков в виде яичницы на сковородке, созданное агентством Keye/Donna/Pearlstein, стало символом лагеря, а постер стал сокровищем коллекционера, как и реклама фильма "Безумие в рефрижераторе".
Другая моральная истерия, длившаяся с конца 1800-х по 1920-е годы, использовала сексуальные и гендерно-ролевые тревоги 19-го века для создания проблемы проституции, с соблазнением и дегенерацией в качестве доминирующих театральных тем (см. Халттунен 1982; Неад 1982). Однако на этот раз, в том, что сейчас называют Великим Страхом перед белым рабством, “дети” стали фигурировать непосредственно как сексуальные жертвы. Термин “белое рабство” появился в конце 1870-х годов. К середине 1880-х годов проблема была четко определена, структурирована и пользовалась значительной популярностью, порождая сильные страсти и иррациональность. Одной из причин этого было продвижение журналистами, в частности У. Т. Стэдом в Англии. Его самая известная работа, The Maiden Tribute of Modern Babylon, впервые опубликованная в его газете Pall Mall Gazette, вышедшая затем в виде книги (1885), содержала его отчет о предполагаемой торговле детьми и молодыми женщинами-подростками. На самом деле, несовершеннолетние проститутки были крайне редки, и лишь немногим было от 13 до 15 лет; почти всем было 16 или больше (Walkowitz 1980; 17ff).
Но его случай стал особенно сенсационным, потому что Стэд вместе с Брэмуэллом Бутом из Армии спасения в качестве самостоятельно созданной “Секретной комиссии” якобы “купил” тринадцатилетнюю девочку, чтобы показать, как легко это можно сделать. Этот трюк довольно известен, хотя есть серьезные сомнения в том, что девушка участвовала в какой-либо регулярной торговле женщинами, и есть доказательства того, что “покупка” была задумана исключительно для журналистской эксплуатации. Его закадычные друзья уже прозвали Стэда “Бамум”, и хотя сам он чувствовал, что был избран Богом для проведения своей кампании, обычно на него смотрели как на “слегка сумасшедшего” (Пирсон 1972: 122, Хайман 1990). Бывшая “сводница”, неопределенно описанная как “находящаяся под опекой” Армии спасения, была “принуждена к службе” для совершения покупок в соответствии с целенаправленно разработанным планом (Бегби 1920:11:43). Стэд был привлечен к уголовной ответственности и приговорен за похищение и нападение на молодую женщину (она дважды подвергалась проверке на “чистоту”, один раз под хлороформом), но в то время общественность смотрела на него как на героя. Другой пример - Клиффорд Роу, прокурор, который заслужил славу спасителя падших женщин, защитника детей и карателя злых мужчин. Он проводил много времени на лекциях, рассказывая свои истории. Роу сказал, что “отвратительный монстр”, он “развратил и заразил наших мальчиков. Он обвил своими скользкими щупальцами наших девочек и задушил чистоту и невинность” (1911:371). Далее, “порок ведет войну с душой, заманивает в ловушку девочек из воскресной школы, развращает мальчиков из хора, разрушает дома, убивает невинных жен, ослепляет беспомощных младенцев, не пускает молодых людей в церковь и пожирает их заработную плату...” (стр. 318)
Говорили, что девочек обманывали, совращали, накачивали наркотиками и похищали, забирали из счастливых семей, принуждали к жизни, которая вскоре (согласованный срок - пять лет) закончится отвратительными болезнями и медленной и мучительной смертью (Roe 1910:13f, 38f, 55ff). Сводники могли “выявлять человеческие слабости своих жертв и мудро воздействовать на них” (Roe 1914:19, с иллюстрациями). Все девушки являются потенциальными жертвами — те, кто “невинен, тих и скромен, и те, кто более своенравен, кокетлив и легкомысленен” (1910:80). Предвосхищая кампании “пропавших детей” конца 1970-х и 1980-х годов, Роу сетовал на “объявления в газетах, почти постоянно запрашивающие об исчезнувших дочерях” (1910:84; 137). Одна из его книг, "Девушка, которая исчезла" (1914), является своего рода докудрама, переосмысление предыдущих тем, встроенных в мелодраматическую историю молодой женщины, совращенной в сексуальное рабство (романы о школьницах, принуждаемых к проституции, не были редкостью, например, Кауфтнанн, 1910).
Девочек удерживали с помощью шантажа и силы белые работорговцы. Stead (1885:5) сказал, что “вопли пыток - суть их наслаждения”. Роу дал детям рассказ о женщине-кокаинистке, найденной прикованной к стене. Возмущенный полицейский на месте происшествия сказал: “Я служу в полиции двадцать лет, но никогда не видел такой взгляд прежде” (1911:246). В другой истории. Роу рассказывает нам: “трудности, через которые прошла Хильда в дьявольских руках Джокера и его приятелей-развратников, здесь не поддаются описанию. Лучше всего представить, что перенесла эта девушка, прекрасная и милая.”[11] Большинству “девочек” было около двадцати лет, но Роу подчеркивает трагические истории 13-летних (1910: 89), 14-летних (стр. 85, 88), 15-летних,[12] и 16-летних (стр. 88, 97, 104); другие описываются как “маленькая девочка” или “молодая девушка” без указания возраста. Мурхед (1911:27f) говорит о восемнадцатилетней женщине как о “маленьком ребенке”. Бегби (1920:II:39, 42) утверждал, что белое рабство “разрушает души и тела совсем маленьких детей”. Поскольку большинству проституток было чуть за 20, историк Коннелли (1980: 126f) была озадачена этой “устойчивой тенденцией характеризовать белых рабов в терминах несовершеннолетних, как испорченных детей или детских жертв, он описал 1913 год выставка в Нью-Йорке скульптора-социалиста Абастенсии Сент-Леджер Эберле в образе “едва достигшей половой зрелости женщины-ребенка”, связанной и продаваемой человеком с большим крючковатым носом, толстыми губами и прищуренными глазами (признаки евреев или восточного Европейца).[13] Оценка Коннелли заключается в том, что
изображение белой рабыни как женщины-ребенка свело сложности городской проституции к проблеме виктимизированных детей, резкое упрощение, весьма эффективное с точки зрения мелодраматической и сентиментальной привлекательности, но малоценное как вклад в рационального понимания серьезной социальной проблемы. (1980: 127)
Он полагал, что паника была результатом того, что взрослые избегали собственной сексуальности, а с детьми как с жертвами было легче иметь дело. И, как я уже указывал, это, безусловно, намного проще, чем иметь дело с сексуально озабоченными детьми и молодежью; распространенные в то время настроения против мастурбации и контроля над рождаемостью были проявлениями этого. Но в более широком смысле Коннелли не видит политики и властных отношений, стоящих за определением так называемой проблемы, и наивно предполагает, что “рациональное понимание” является целью такой борьбы в обществе, даже среди экспертов. Считалось, что белое рабство представляет собой международную сеть, снабженную секретными кодами (Roe 1910: passim; 1911:112). Белл (1911:214) привлек внимание к молодым китаянкам-подросткам, продаваемым в качестве проституток, а Циммерман (1916) приводит подобные отчеты.[14] Роу позже вынужден был признать, что это “расчлененный, бессвязный бизнес. Он цитирует Нью-Йоркский (Рокфеллеровский) Отчет Большого жюри от июня 29 декабря 1910 (1911:230-236), в котором не было обнаружено общей организации, только сходные методы закупок и ассоциации между отдельными лицами, особенно состоящими в отношениях проститутки и сутенера. Это, как и “кольца педофилов”, особенности, которые лучше всего объяснить с точки зрения социологии или экономики, а не психиатрии или теории заговора.
Вуайеризм является важным компонентом всех кампаний за чистоту и хорошо использовался в борьбе с белыми рабами. В начале 1900-х годов было снято несколько фильмов и пьес, поставленные на эту тему. В то время социальный контекст был связан с трудовыми волнениями, увеличением численности населения и миграцией, предполагаемыми угрозами со стороны прибывающих иностранцев, феминистской агитацией, борьбой за контроль рождаемости и половое воспитание, кампаниями по воздержанию и борьбе с наркотиками, а также беспокойством по поводу того, что популярная культура делает с молодежью и цивилизацией. Фильмы начали появляться в первом десятилетии 20-го века (самый известный - "Движение душ", 1913), пик популярности пришелся почти на десятилетие позже, однако к этой дате выпуск был раскритикован как фальшивый, а постановки описываются как порнография. Вскоре после этого появились сатира и насмешки.[15] С позднего подросткового возраста до середины 1920-х годов тема “похищенных девочек/спасенных девушек” строилась на образах белых рабынь, продвигаемых ФБР и журналистикой как фактические и распространенные. Время от времени появлялось несколько фильмов ("В безопасности ли ваша дочь?", 1927; "Прайм Кат", 1972, с очень молодо выглядящей Сисси Спейсек), чтобы сохранить мотивы живыми до тех пор, пока обстоятельства не потребуют их возобновления для достижения аналогичных целей (Кларенс 1980:24ff). Во многих текстах о белых рабах предлагались подробные “экскурсии” по районам нравов и борделям. Роу нравилось представлять “экспозиции похоти и стыда” городской жизни:
Да, здесь тоже оркестры играют популярные мелодии в кафе. Музыкальные шкатулки и пианино наполняют воздух скрипучими, звенящими мелодиями. По обеим сторонам тянутся длинные проспекты, улицы и переулки с салунами, киосками, детскими кроватками и дворцами позора. Люди входят и выходят, хлопая дверями. Окна, отражающие разнообразные цвета и огни, частично открыты. Внутри танцуют и смеются. В мягком ночном воздухе разносятся крики и проклятия. Также можно найти там ряды домашнего скота. Свиньи валяются в грязи и пьют до тех пор, пока у них не заболят животы. Овцы и ягнята, кроткие и ненавязчивые, следят за прекрасной погодой. Как скот, девушек гонят на убой, в то время как мужчины, как жеребцы, гарцуют в своем пьяном разгуле. Но это еще не все, есть рынок, да, “Рынок душ”, где людей продают в “Дома рабства”. ... Крики и смыслы беспомощных остаются в ушах. Те, кого избивают, взывают о помощи. ... Рабовладельцы и девушки-торговки прогуливаются, куря черные сигары, нацепив огромные бриллианты, чтобы сбить с толку и ослепить простодушную молодежь. Женщины в ярко-красных платьях снуют туда-сюда. Разврат царит безраздельно. Ночь продолжается среди гама, суматохи и грохота, пока серый рассвет не разгонит тьму, и все снова не затихнет. (1911:186f)
Чтобы познакомиться поближе, нас приглашают на экскурсию по “дому, где царит беспорядок”:
Мы входим без предупреждения и видим, как местный гробовщик выносит изможденное тело того, что когда-то было гордостью материнского сердца... Веселый смех впереди, и мы спешим туда. Это прибытие о новой жертве, которая думает, что нашла возлюбленного “с первого взгляда”, и радостно идут к брачному алтарю; и ряды, сократившиеся за мгновение до этого, снова заполняются, и начинается другая трагедия. Мы слышим мольбы и стоны детского голоса с верхнего этажа; мы поднимаемся по лестнице, и на лестничной площадке нас встречает мадам с пачкой хрустящих купюр, квитанций от продажи новой белой рабыни богатому, распущенному покровителю, который выплачивает крупные суммы денег нанимают невинных маленьких девочек для разврата и разорения. Взгляд сквозь фрамугу, поскольку дверь заперта на засов, и мы видим жестокого, бессердечного демона с затуманенными глазами, злорадствующего над маленькой четырнадцатилетней жертвой, которая на коленях молит о пощаде. Наша рука бессознательно тянется к набедренному карману, а палец на спусковом крючке начинает чесаться, когда полицейский в синей форме, представитель закона, платный защитник угнетенных и тех, кому угрожает телесное повреждение, напоминает нам, что дом охраняется городскими властями и что полиция клуба и тюрьма ждут нас в случае любого вмешательства. (1911:360)
Приоритет был отдан внешней угрозе, но подтекст, как это и должно было быть в 1980-е годы, касался проблемных детей и молодежи. Озабоченность века проституцией прикрывала страх перед сексуальной молодежью и социальным упадком, и, следовательно, большой акцент делался на разрушении молодежи. “Мальчики и юноши, живущие в многоквартирных домах, подвергаются искушению и становятся зависимыми от безнравственных привычек”, - сказал Роу (1911: 209). Девушек привлекают “блеск и освещенность больших городов после наступления ночи”, - сказал он, понимая, что “во многих случаях у девушек возникает неугомонное желание потянуться, отодвинуть занавес и заглянуть в лабиринты греха...”[16] Роу искал причины, ведущие к “жизни, полной сексуального насилия, которое не может означать ничего, кроме существования в отчаянии, болезнях и буквальной смерти” (1911: 438). Он перечисляет эти факторы, без определенного порядка, “которые поощряют социальную и личную нечистоплотность”:
Беспорядочные связи в школьной и студенческой жизни; объединение мальчиков и девочек, мужчин и женщин в офисах и на фабриках, торговля спиртными напитками; увеличение числа поездок; увеличение количества клубов и гостиниц; распространение социальных заболеваний; объединение наших людей в крупные города; популярные развлечения сегодняшнего дня, представленные в обычном театре, дешевом шоу, nickelodeon, кинотеатре picture machine, публичных танцах и экскурсиях, садах развлечений и парках, уличных карнавалах и ярмарках; использование субботы скорее как дня удовольствия, чем для богослужения и отдыха; ассоциации с улицей, особенно в вечерние часы; стимулирование любви к одежде посредством открытой демонстрации нарядов и моды в женской одежде; сегрегированные и официально санкционированные и “регулируемые” зоны разврата в большинстве городов, а также придорожные дома в сельской местности; трудности женщин, однажды вступивших в постыдную жизнь, с поиском работы в чем-либо другом; отсутствие инструкций относительно сексуальной жизни и неспособность полностью предупредить об опасностях и искушениях, с которыми могут столкнуться мальчики и девочки; непристойности в литературе и искусстве; увеличение в употреблении наркотиков; неспособность наших обычных школ подготовить к жизни, а не к поступлению в колледж или к получению профессии; увеличение числа очень бедных и праздных богачей; недостаточный уровень благосостояеия девочек и женщин; слабость законодательства, регулирующего брак и развод; общие методы доставки в наших почтовых отделениях и коммерческий дух, который царит повсюду. (1911:438f)
Такого рода тексты, содержащие смесь жалоб консерваторов и либералов, - это нечто большее, чем единичная угроза сводника, нечто большее, чем работорговля. Это сама повседневная жизнь. Защитники чистоты хотели новых законов, потому что чувствовали, что старые скорее благоприятствуют, чем наказывают виновных. Раввин Якоб Ньето предписывал ветхозаветную справедливость, не замечая иронии образов:
... единственное лекарство от этого зла - принуждать людей...стать настоящими скитальцами, чтобы они, возможно, не нашли пристанища ни в одном городе Соединенных Штатов, чтобы их преследовали, как они того заслуживают, или повесили… Они дегуманизированы, они стали звероподобными и непригодными для жизни в обществе людей.[17]
Обычно взывали к божествам. Белл (1911: 475) предлагает текст Уильяма Буту, генералу Армии спасения, в котором он дважды, заглавными буквами, призывает читателя: “РАДИ БОГА, СДЕЛАЙ ЧТО-НИБУДЬ!”[18] Героическая сила спасителей демонстрируется на поле боя: “В то время как торговля девочками уничтожается, работорговцы снуют туда-сюда в поисках убежища” (Roe 1911:373), точно так же, как, по слухам, поступали педофилы 1980-х годов. Социологически, как в 1980-х годах наблюдалось увеличение числа обществ и комитетов, занимающихся борьбой с пороком и пропагандой чистоты. Роу связал свою работу с классическими кампаниями против белых рабов 1880-х годов и связал себя с усилиями Энтони Комстока. Паника не обошлась без критиков, хотя многие ждали до последнего времени, чтобы обнародовать свои исследования и критические замечания — возможно, это понятно, поскольку одной из существенных черт культурной истерии является энергичное, преднамеренное замалчивание и наказание противоположных взглядов и данных. Reckless (1933:36, 43f) показал, что многие истории и статистические данные Роу преувеличены. Подробнее, однако, в разгар того времени Биллингтон-Грейг (1913) написала горькую и обстоятельную критику безумия английского белого рабства, которое она назвала “эпидемией ужасных слухов”. То, что она была феминисткой, сильно раздражало таких людей, как Роу; она была “циничным сторонним наблюдателем”, который принижал героизм полиции и прокуроров (1914: 112,218).
Биллингтон-Грейг сделала три вещи. Одним из них было указание на унизительный характер этих историй. Рассказы о белых рабах “считали само собой разумеющимся, что любой мужчина может контролировать, руководить и доминировать над любой женщиной” (1913:429). Она также указала, что это также клевета на мужчин как на биологический вид. Во-вторых, она осознала фольклорную природу истерии, обнаружив, что одна и та же история циркулирует в нескольких местах с незначительными вариациями; когда она подвергла сомнению несколько рассказов, она обнаружила, что история просто “повторяется с ударением”, как будто это было ее собственным подтверждением (стр. 430). В-третьих, она попыталась проверить эти истории, связавшись с полицией и газетами. Ни одна из них не могла быть подтверждена, а многие были откровенно сфабрикованы. Большинство из тех, кого крестоносцы морали использовали в качестве “жертв”, оказались беглецами, и большинство из них, подобно ситуациям 1980-х годов, были выслежены и найдены.[19]
Особенно длительной и яростной моральной кампанией был крестовый поход против детской мастурбации.[20] Многие историки считали, что администраторы социальных порядков 18-го и большей части 19-го веков верили, что вседозволенность подрывает цивилизацию, и в результате имело место повсеместное и жестокое отрицание и подавление секса (например, Керн, 1975). Удовольствия вызывали отвращение, в то время как тело как основное внимание уделялось источнику боли, страданий, болезней и смерти, особенно когда речь заходила о завидных и привлекательных телах подростков. В 1977 году историк Мишель Фуко написал, что вопреки этому представлению о викторианском подавлении секса,
о детском сексе говорят постоянно и во всех возможных контекстах. Кто-то может возразить, что цель... состояла именно в том, чтобы помешать детям иметь сексуальную ориентацию. Но их целью было донести это до родителей, что пол их детей представляет собой фундаментальную проблему с точки зрения их родительских воспитательных обязанностей, и вдалбливать в головы детей, что их отношения с собственным телом и их собственным полом должны были стать фундаментальной проблемой для них самих; и это стало следствием сексуальное возбуждение тел детей, в то же время фиксируя родительский взгляд и бдительность в отношении опасности инфантильной сексуальности. Результатом стала сексуализация детского тела, сексуализация телесных отношений между родителем и ребенком, сексуализация семейной сферы.[21]
Это касалось не только детей, но и женщин и способствовало концептуальному утверждению того, что мы сейчас называем ”лолитаизмом" и женщинами, похожими на детей. Женская мастурбация, особенно у девочек, была особенно ужасающей и возбуждающей для надзирателей того времени:
Один моралист упомянул о женском онанизме как о предмете, “слишком ужасном для размышления”, хотя затем он продолжил размышлять об этом довольно подробно. Эта смесь негодования и вуайеризма была характерна для большей части медицинской литературы 19-го века. (Керн 1975:100).
Считалось, что женщины, которые мастурбировали в детстве, были “непригодны” для брака - устойчивое направление профессиональной и популярной мысли, согласно которому дети, занимающиеся сексом, по-прежнему становятся взрослыми с психологическими и социальными отклонениями. Предвосхищая точку зрения “подвергшиеся насилию становятся насильницами”, беременным и кормящим грудью женщинам советовали не заниматься сексом (и даже не думать о сексе), потому что это может вызвать “передачу либидозных наклонностей ребенку.”[22] Травма, от которой предположительно страдают все молодые участники секса между взрослыми и молодежью, напоминает тему “Угроза успеху”, встречающуюся в рассказах о борьбе с мастурбацией и белых рабынях; “На карту поставлены женственность и мужественность, наши дома в опасности, а стабильность нации подрывается воспитанием слабых и развращенных детей”, - сказал Роу (1911: 372). Эксперты 19-го века рекомендовали женщинам выходить замуж и начинать репродуктивный секс в шестнадцать лет, потому что, если бы они подождали еще немного, им, возможно, пришлось бы пойти на работу или, что еще хуже, получить образование, а это привело бы к трудностям, сексуальным дисфункциям и “дефектному развитию половых органов".[23]
Были некоторые предположения, что мастурбация была наследственным заболеванием, но большинство считало, что осознание пришло к ребенку из внешних источников. Открытие могло произойти случайно, например, при трении одежды или физических упражнениях, таких как езда на велосипеде, хотя считалось, что это случается редко.[24] С другой стороны, мастурбация у мальчиков была признаком того, что они пренебрегали своей обязанностью быть физически активными и сильными. Молодость, посвященная праздности, меланхолии или самоанализу, стала ассоциироваться с мастурбатором (Джорданова 1987:74, Хантер 1990; 276f). Также считалось, что к открытию мастурбации, ребенок может прийти к этому, через знакомство с популярной культурой, особенно романами или другими стимуляторами воображения. Чаще всего это происходит благодаря целенаправленному обучению со стороны сверстников и взрослых, таких как няни. Не было никакого полового воспитания для детей, только настойчивое требование воздержания, только увещевания, которые, как указывал Фуко, активизировали воображение как молодежи, так и взрослых. Керн (1975) отмечает, что текст 1897 года. Что должна знать Молодая девушка, сказали девочкам, что “вы никогда не должны трогать [гениталии] или позволять кому-либо другому”, Авторы заявили, что “Маленькая девочка, которая ценит свою скромность... никогда не будет позволять кому угодно говорить с ней о любой части ее тела таким образом, который не является милым и чистым”. Это явно предшественник риторики 1980-х годов “хорошее прикосновение — плохое прикосновение” и “способы, которые заставляют вас чувствовать себя некомфортно”. Признавая, что имело место “крайне противоестественное действия между пожилыми и очень молодыми”, Джозефина Янг, доктор медицины (Roe 1911: 433), считала, что они обычно происходили из-за пьянства; взгляды на трезвость тогда доминировали в медицинских и реформаторских кругах, а не идеи о каком-либо широко распространенном заговоре педофилов. Забота о взаимоотношениях взрослых и молодежи секс был отнесен к категории страхов перед мастурбирующим ребенком на протяжении всего 19 -го века до середины 20-го века, когда возобладали образы гомосексуалистов, соблазняющих детей.
Каков бы ни был его источник, мастурбация порождала необузданные сексуальные желания. В этом были два аспекта, которые приводили взрослых в ужас, вызывали отвращение, пугали и возбуждали их. Один из них заключался в том, что сексуальный ребенок становился евангелистом, прозелитом, еще одним соблазнителем. В 1844 году доктор Огастес Гарднер провозгласил, что “одна девочка, развращенная таким образом, вызовет моральную эпидемию в большой семье [учащихся школы-интерната], достигших половой зрелости, девочки, воспитанные в горячей постели” (Баркер-Бенфилд 1976: 239). Позже в этом столетии “Один Врач” продолжал пропагандировать страх. Поскольку женщины могут быть экстремальными в доброте, они также экстремальны и во зле. Число молодых женщин-детей мастурбаторов “огромно”, сказал он (1876:106), и опасно, потому что их существование скрывается и игнорируется. Присоединяясь к выступлениям против образования женщин, автор сосредотачивается на школах-интернатах, “где [мастурбация] наиболее широко изучается и практикуется” (стр. 137). До этого времени близкие дружеские отношения поощряли отношения между девочками и женщинами, но теперь эти отношения не поощрялись и подвергались стигматизации. Автор сказал, что “в одной и той же кровати [в школе-интернате] часто спят две подруги” (стр. 107), и далее предупредил читателя, что “нет такой молодой девушки, которую не следует рассматривать как уже пристрастившуюся к этой привычке или склонную стать зависимой от нее.”[25] Для большинства авторитетных специалистов мастурбация была “заразным пороком” и “национальной эпидемией” (Халлер и Халлер 1974). Доктор Янг также предупредила своих читателей о сексуально деструктивном ребенке:
Одна семилетняя девочка-дегенерат была обнаружена деморализующей шестерых маленьких мальчиков в детском саду своей школы. ... Эти дети обычно умело скрывают свои порочные поступки, которые совершаются не в школе, а в сараях и в других труднодоступных местах. Было обнаружено, что группы детей в пригородах, где родители считают, что их дети в безопасности, собираются вместе в каком-нибудь неиспользуемом доме или на свалке с дурными целями. Это ни в коем случае не редкость и встречается среди всех классов. (Roe 1911: 433)
Во-вторых, ребенок превращается в неистового сексуального зверя. Доктор Гарднер представил свои экспертные заключения:
[Ребенок доведен до] совершенно неконтролируемого исступления, [у него] неестественный аппетит, который невозможно утолить, который не поддается решеткам и засовам, суровости диеты на хлебе и воде, закованным в оковы и прямой угрозы наказания и его фактическое суровое физическое бичевание, [индульгенция], [которая] сама по себе, по необходимости, разрушит трон разума из-за ниспровержения всей нервной силы.[26]
В 19 веке в США был составлен перечень стигматов, связанных с мастурбацией очень подробный. Анкеты, с помощью которых можно было обнаружить и запечатлеть ребенка, подвергшегося сексуальному насилию над самим собой, превосходили только список с энтузиазмом проведенных излечений. При их рассмотрении,[27] важно помнить, что общепринятые взгляды были подкреплены профессиональными авторитетами, предоставляющими научные доказательства.[28] Вот признаки молодого человека, совершающего самобичевание:
Тупость
“Несущий чушь идиотизм”
Дефектная память
Застенчивая и замкнутая манера поведения
“Смелость”
“Необычная грусть”; меланхолия; угрюмая погруженность в себя
Подозрительность к другим
Пренебрежение личными привычками и гигиеной
Неспособность смотреть другим в глаза; “избегает взглядов женщин, но упускает возможность взглянуть на них”
Нежелание разговаривать
Неспособность сосредоточиться
Снижение уверенности в себе
Уклонение от работы
Слишком долгое пребывание в постели; малоподвижный образ жизни, “вялые манеры”; праздность; апатия
Отвращение к “законным удовольствиям”
Предпочтение одиночества
Тесная, интенсивная дружба, особенно среди девушек; подозрительная дружба
Ипохондрия; быть “сварливым служащим”
Депрессия
Дегенеративный невроз
Лукавство
Подлость
Трусость
Чувство глубокого стыда и/или бесполезности
Тщеславие
Спать на животе
Предпочтение мягких кроватей
Желание подвергнуться бичеванию со стороны учителей
Любовь к танцам
Чтение романов
Предпочтение “распущенным” произведениям сцены, искусства и текстов
Скольжение по столбам или деревьям
Езда на велосипеде
Похотливые мечты
Озорной нрав
Гомосексуальность (мужская или женская)
Педерастия
Нимфомания, особенно у блондинок
Жажда смерти
Психоз
Склонность к убийству
Неконтролируемое насилие
Если наблюдатель все еще сомневался, там были графические списки последствий мастурбации; Фландрин (1979:190) сообщает, что описания опустошенной юности были прочитаны школьникам, чтобы вызвать страх перед мастурбацией.
Бледный, бескровный цвет лица
Обесцвеченные зубы
Впалые, запавшие “глаза наполовину мертвеца”; “тусклые и бездуховные глаза”
Дряблые мышцы
Худощавое телосложение; впалая грудь; сутулая осанка
Ступоры
Усталость
Затрудненное дыхание, одышка и запыхавшийся ребенок
Боли в спине
Спазмы в животе
Кашель
Нерегулярное сердцебиение; учащенное сердцебиение
Астма
Головокружение; вертиго
Обморок
Слезящиеся глаза
Спазмы
Потеря зрения
Потеря слуха
Потеря чувствительности
Потеря памяти
Потеря аппетита
“Неестественный” аппетит к определенным продуктам[29]
Диспепсия (расстройство желудка)
Угревая сыпь
Запор
Геморрой
Тупая боль в нижних конечностях
Заполненные гноем фурункулы
Опухоли
Сильные головные боли
Уменьшение размера полового члена
Приапизм (постоянная боль до эрекции полового члена)
Импотенция
Бесплодие
Преждевременная эякуляция
Сыпь на клиторе
Удлинение малых половых губ
Бели (беловатые выделения из влагалища)
Маточные кровотечения
Опущение матки
Гипертрофия молочных желез
Рахит
Дизурия (болезненное мочеиспускание)
Замедленный рост “бороды, смелости и энергии”
Размягчение головного мозга
Потеря мозговой ткани
Потеря костного мозга
Tabes dorsalis (ослабление мышц спины)
Желтуха
Болезни крови
Ревматизм
Диабет
Катар (воспаление слизистых оболочек, особенно носа или горла, вызывающее выделение слизи)
Маразм (истощение организма)
Чахотка; фтизиоз
Гонорея
Сперматорея (непроизвольная потеря спермы; “утечка”)
Паралич
Рвота
Эпилепсия
“Мания”
Каталепсия; кататония
Ночные галлюцинации
Религиозный бред
Старческий маразм
Рак
Невменяемость
Самоубийство
Смерть
Требовались немедленные и радикальные меры. Увещевания в начале-середине 19-го века были религиозными по содержанию и больше касались духовного благополучия; “практикующие будут преследоваться негодованием и гневом Божьим”, - сказал один из них Христиан.[30] С середины века до начала 20-го кампании стали более светскими, опирающимися на науку и управляемыми гражданскими властями, основанными на одержимости физическим здоровьем. Однако религиозный и светский дискурсы оставались вплетенными и фактически зависели друг от друга, что в значительной степени являлось тактикой популяризированной Тиссо, когда в своем первом издании "Онанизм" (1784) он утверждал, что продолжает авторитет Церкви. Он разрешил медицине не только описывать, но и искоренять “зло”, и он дал себе (и своим будущим коллегам) разрешение обсуждать и демонстрировать то, что является “непристойным”, и, пока кто-то против этого, он делал это подробно.
Ниже приведен список методов лечения, применяемых профессионалами и родителями того времени. Целая индустрия институтов и экспертов взяла на себя роль спасителей нации, леча мастурбацию, которую они искали и неизбежно находили.
Чтение Библии
Раскаяние
Чистые помыслы
Особая осторожность во время фаз Луны
Регулярное опорожнение кишечника
Упражнение
Умеренный сон; ранний подъем
Свежие фрукты и овощи
Специально приготовленные сухие завтраки
Брак
Посещения проститутки
Приобретение любовницы
Отказ от обращения со своими гениталиями
Ледяные ванны для гениталий перед сном
Горячие, затем холодные ванны
Обертывание влажными простынями
Пиявки; кровопускание
Клизмы
Волосяной матрас и простыни
Повязки на гениталии во время сна, с травяным мешочком на гениталиях
Смирительные рубашки во время сна
Привязывание рук к столбикам кровати или кольцам в стенах
Связывание ног для разделения бедер
Устройства, удерживающие спящего на спине
Металлические стропы, закрывающие гениталии, в том числе с сигнализаторами, которые сигнализируют о возникновении эрекции
Влагалища для пениса с шипами
Инфибуляция; вставка колец в крайнюю плоть
Кожаные шнуры, обвязанные вокруг пениса
Деревянные, металлические, резиновые или фарфоровые цилиндры, вводимые в прямую кишку для прижатия к предстательной железе
Электромагнитные процедуры; ихермоэлектрокоагуляция
Образование пузырей на бедрах
Применение химикатов: красного железа, рвотных мазей с винным камнем, камфорной “шпанской мушки" , кислотных ожогов.
Прием внутрь химических веществ: хинин, наперстянка, белладонна, бромид калия, каннабис, опиум, морфин
Неровное обрезание крайней плоти; обрезание
Электроды в мочевом пузыре и прямой кишке
Клитородектомия
Овариотомия
Вазэктомия
Иглоукалывание предстательной железы и яичек
Заключение в лечебное учреждение и применение любого или всех вышеперечисленных методов.
Коллекции Краффт-Эбинга, одного из людей, наиболее ответственных за институционализацию сексологии как средства морального и политического контроля, всегда хороши для вдохновляющей истории. Он привел случай, о котором сообщалось в 1882 году, что свидетельствовало о стойкости детей перед лицом взрослых спасителей. Это была
отвратительная история о двух сестрах, страдающих преждевременным и извращенным сексуальным влечением. Старшая, Р., мастурбировала в возрасте семи лет, практиковала, распутничала с мальчиками, крала все, что могла, совратила свою четырехлетнюю сестру на мастурбацию, а в возрасте десяти лет предалась самым отвратительным порокам. Даже раскаленное добела железо, приложенное к клитору, не помогло преодолеть эту практику, и она мастурбировала рясой священника, пока он призывал ее к исправлению.[31]
Это стало важно, внимательно и непрерывно наблюдать за детьми. В то время как 19-й век выдвинул идею неприкосновенности частной жизни как атрибута индивидуализма и капитализма, это не распространялось на детей; как раз наоборот. Гей замечает, что родители
вскрывали письма своих детей, следили за их чтением, сопровождали посетителей, осматривали их нижнее белье. Если родители добивались правдивости от своих детей, это слишком часто служило ширмой для грубого утверждения взрослой власти, как высокомерного, а порой и похотливого вторжения в юные жизни. (1984:446; Айрес 1962:393ff)
Большая часть неистовства против мастурбации происходила в контексте сильной обеспокоенности по поводу целостности и сплоченности распадающейся семьи белого среднего класса. Эти опасения способствовали тому, что повсюду было замечено вредоносное влияние в виде артефактов, идей и классов людей. Образы и темы, появившиеся в 1980-х годах, были прямыми наследниками этих страхов 19-го века.
II
Многие движения сосредотачиваются вокруг определенных личностей. Одна фигура, действовавшая в конце 19-го века, была ответственна за институционализацию фундаментальной темы, всегда использовалась в полемике и кампаниях против растления молодежи. Энтони Комсток применил политические принципы к определению “непристойности”, связав его с философией либерализма, свободомыслия (1880; 416f) и, что более характерно для его времени, Движением за свободную любовь. Литературное движения, которое Комсток назвал ”литературу, разжигающую похоть“, "разрушающей самоуважение, моральную чистоту и святую жизнь. Несомненно, разорение и смерть - это конец для жертв, захваченных этой доктриной, которая сейчас становится столь распространенной” (1967: 158). Принципы свободной любви, как сто лет спустя, можно было бы сказать, что аргументы педофилов были “фальшивыми доктринами и теориями” (стр. 163). С самого начала обвинения в непристойности были как политическим, так и культурным соревнованием. ”Нежная молодежь“ могла бы быть ”развращена и проклята на всю жизнь" (1880:418), если бы поддалась искушению. Чтение может превратить их в маньяков-убийц “Газеты для мальчиков” и газетчики использовали страницы сенсационной прессы, чтобы заманить детей к своим киоскам, где к ним приставали (стр. 436-441). Комсток всю свою жизнь мечтал о “моральном героизме”[32] и верил, что был избран богом, его божество защищало молодежь каждого человека от происков сатаны (1967:239).
Комсток был вовлечен во все аспекты правоприменения, от лоббирования законодательства (принятого по его усмотрению в 1873 году) до провокаций и арестов. Иногда используя женские имена, он часто переписывался с порнофилами. В ходе его первого ареста,как и многих других, были арестованы два мальчика в возрасте 11 и 13 лет. Он вел подробные записи о своих завоеваниях, измеряемых количеством железнодорожных вагонов, груженных артефактами, и количеством людей, которых он довел до самоубийства. Хотя Комстока широко высмеивали, это было скорее из-за его фанатизма, чем из-за того, что он совершил самоубийство из-за его взглядов; основное предположение, необходимость чистоты, получило широкую поддержку. Критика и любое обсуждение секса вне рамок брака и воспроизводства не только не поощрялись и подвергались стигматизации, но и подвергались действиям полиции. Даже профессионалы, которые придерживались основных предположений того времени, но отваживались на альтернативные варианты, были в опасности. В 1899 году автор книги “Правильная супружеская жизнь” был арестован и осужден за “непристойность” за пропаганду тактики "свободной любви", мужского оргазма без эякуляции (Халлер и Халлер 1974: 117). В 1913 году в Бостоне неврологу угрожали арестом и судебным преследованием за публикацию профессиональных статей о психоанализе и сексе. В течение этого периода многие проблемы, выраженные в тексте или изображении, с преобладающими взглядами были решены расширенным применением недавно разработанных статуй о непристойностях, предназначенных для борьбы с распространением информации о контроле над рождаемостью, что обычно приводило к “быстрому и определенному наказанию” (Hale 1971: 444ff).
Даже такой консервативный исследователь, как Джеймс Инцарди, был вынужден назвать высказывания Гарри Анслингера “бредом сумасшедшего”.[33] Многие получают удовольствие от его нелепых образов наркоманов, жертв и героев.[34] Анслингер не был ни уникальным, ни исключением. В компании Анслингера — фактически, конкурируя с ним за общественное внимание и средства — был Дж. Эдгар Гувер, человек, оказавший значительное влияние на концепцию растлителя малолетних. Гувер взял направление печально известных “файлов гора” Анслингера (Sloman 1983) и расширил их, они дошли до такой степени, что по сравнению с ними Анслингер выглядел рациональным. Благодаря Гуверу и личностей, которых выбирает ФБР, это учреждение стало известно во всем мире своей организованной преступной деятельностью, антидемократической подрывной деятельностью и социопатической эротофобией.
Тексты Гувера во многом следуют жанровым образцам. Одна вещь, которая ему особенно нравилось, - это изображать безжалостность к преступной деятельности. Были “растущие волны” преступности, в которых “угроза растущей армии преступников” присутствовала в каждом сообществе. Он постоянно утверждал, что “развращенные люди, более свирепы, чем звери, которые бродят по Америке по своему усмотрению”, что растет число “звериных деяний”, совершаемых “извергами”, и что “дегенераты одичали” по всей стране (1937; 1955; 1967a, b). Один особый риторический прием, который Гувер часто использовал, как мы уже заметили, в дискурсах против педофилов, - это использование фразы, рассчитывающей количество преступлений с точностью до минуты. Сексуальное насилие происходит каждые 43 минуты, “днем и ночью” (1947). Одно из семи преступлений - преступление на сексуальной почве (1955); позже оно становится одним из четырех (1967b). Сексуального преступника арестовывали раз в 6 часов в 1937 году, каждые 6,7 минуты в 1955 году, а к 1967 году (b) это было “каждые 4,5 минуты днем и ночью”.
Значительная часть его текстов посвящена подробному описанию дел “из досье”, как он любил говорить. На них никогда не ссылаются и дают лишь смутные указания на время и местоположение: события произошли “недавно” и, самое конкретное, на Востоке побережья[35] Далее один за другим приводятся ужасающие примеры, приправленные подробностями запекшейся крови или секса. Ни один ребенок не находится в безопасности, и “огромная армия” растлителей может “нанести удар, где угодно и в любое время. Детей заманивают или хватают на улицах, как правило, незнакомцы или незначительные знакомые. Убийство - это предполагаемый или фактический результат секса между взрослыми и молодежью: “немногие убийства приближаются к насилию, совершаемые сексуальными извергами”, - сказал он. Излюбленные сценарии включали множественные изнасилования — как в течением времени, так и двумя или более нападавшими, нападения на особо уязвимых детей (12-летняя девочка со спинальным менингитом была “изнасилована” [1947]) и телесные повреждения (мужчина, изнасиловавший пожилую женщину и еще одну 12-летнюю девочку, у которой “был буквально вспорот живот” [1947]). Преступники неизбежно усиливают свою жестокость с каждым преступлением. Подтекст этого заключается в том, что нападавшие ранее имели судимости и участвовали в постоянных оргиях насильственных преступлений, независимо от периодов поимки, тюремного заключения и психиатрической экспертизы. Каждое мелкое правонарушение “было ярким указателем, указывающим на будущее пыток, изнасилований, увечий и убийств”, воскликнул Гувер (1937).
После этого предисловия. Затем Гувер обычно тратил до трети своего текста на перечисление ужасных последствий мягких законов, судов, политики, условно-досрочного освобождения и родителей правонарушителей, особенно матери, умоляющие за своих сыновей. Он осудил кампании “кровоточащих сердец”, “бригад сестер-рыдалок” и “мягкосердечных и мягкоголовых”, все с их “ложныеми сентиментальностями“.[36] Гувер привел случай с ”диким дегенератом“, которого при аресте пришлось привязать к носилкам из-за его неконтролируемого поведения; он был освобожден из-за обращения его матери ”рыдающая сестра" (1955, 1967b). Гувер призывал уделять больше внимания чувствам жертв, “насиловать детей в состоянии истерии” (1947).
Он требовал ужесточения законов и настаивал на суровых приговорах, одобрительно цитируя дело, в котором судья назначил своего рода “лечение”: “лечение было экстремальным... [и] до сих пор является официальной тайной, но оно сработало на благо общества”(1947). Гувер призвал изучать сексуальные отклонения “высокопоставленных медиков” потому что “должно прийти время, когда в особенно отвратительных случаях хирург должен сыграть свою роль в устранении сексуального преступника как явной угрозы” (1937). Возможно, для того, чтобы убедиться, что общественность считает дело достаточно отвратительным, он особенно беспокоился о том, чтобы пресса раскрыла подробности преступлений, личности подозреваемых, обвиняемых, и что частные лица и организованные граждане следят за делами, чтобы обеспечить надлежащую суровость наказания и тюремного заключения. Не должно быть ни вопросов, ни колебаний; “каждое сообщество должно посвятить себя сегрегации всех подозреваемых в преступлениях" (1937; курсив мой). Он также выступал за то, чтобы нарушить молчание о сексе и обучать детей способам выявления опасных незнакомцев и как бегжать от них; плакат, распространенный ФБР (рис. 4.1), охватил десятки миллионов школьников с момента его появления в 1956 году (Гувер 1963, 1967а).
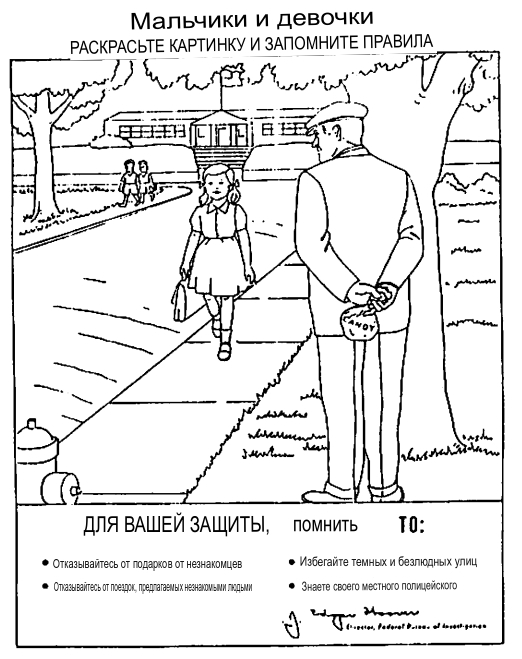 Рисунок 4.1 Плакат ФБР Незнакомец - опасность
Рисунок 4.1 Плакат ФБР Незнакомец - опасность
Но в то время как он выступал за широкую огласку и “высокий уровень общественной бдительности и негодования”, Гувер настаивал на защите и уважении заявителей. Гувер сказал, что “раздражение женщин и детей следует рассматривать как гораздо более серьезное оскорбление общества”, чем считалось в то время (1937). Это, конечно, была не прогрессивная позиция, а горькое и ностальгическое воспоминание об идеализации женщин и детей 19-го века как носителей невинности, чистоты и нравственности. Многое из образа, риторики и ценностей Гувера было с радостью раскручено журналистами. Нет различий в борьбе, было проведено различие между воспитателями детей и детоубийцами. “Порочные люди бродят по улицам Америки”, - сказала Райс (1967:17), и они неотличимы от всех остальных. “Тень сексуального преступника лежит на пороге каждого дома” (Харрис 1946), и каждый ребенок находится в опасности. При аресте назначаются лишь небольшие штрафы или приговоры, и часто жертвы, уже обремененные “неизгладимыми шрамами”, вынуждены страдать еще больше. Харрис настаивал на том, что полиции необходимо выследить “каждый случай извращения, какой бы незначительной он ни был", и хотел, чтобы в национальной сети хранились обширные досье на всех арестованных по подозрению в сексуальных извращениях (Гувер [1962] хотел, чтобы у всех школьных служащих снимали отпечатки пальцев для облегчения отслеживания и мониторинга). Законы о бессрочном заключении под стражу, тщательное обследование экспертами-психиатрами, отказ в заключении сделок о признании вины и лоботомии рекомендуются Харрисом для работы с подозреваемыми. С этой целью начали приниматься печально известные законы о “сексуальных психопатах”, которые оказались лишь незначительно неэффективными, профессиональный протест, с 1937 по 1950-е годы.
III
Основываясь на темах, широко использовавшихся в реформаторских движениях до гражданской войны, кампании “жестокое обращение с детьми” в конце 19-го и начале 20-го веков перешли от концепций “жестокости” или “пренебрежения” к реальным или воображаемым последствиям “порока”, бедности и массовой культуры. “Порок” обозначался как алкоголь, табак, наркотики, плохое отношение и, конечно же, секс. Всего этого следовало избегать не только из-за их содержания, но и потому, что считалось, что они вызывают привыкание; широко используемая фраза “привычки порока” несла в себе двойную угрозу. Но фундаментальной проблемой была массовая культура. С самых ранних пуританских дней в Америке считалось, что для детей должна поддерживаться незагрязненная моральная среда. Ребенок рассматривался как, “восприимчив”; если ребенок был невинен, он был “уязвим”. Существования идеальных образцов для подражания было недостаточно. Вся окружающая среда должна была подвергнуться очищению, потому что заражение было немедленным и автоматическим. 19-й век породил несколько прекрасных примеров этой идеи, в основном из-за относительно внезапной и хаотичной экспансии, наряду с большими числа иммигрантов, городского и технологического ландшафта. Как выразился преподобный Мэги;
контакта со злом избежать невозможно, [дети и молодежь] ходят по улицам города...видят достопримечательности, слышать звуки и подвергаются влиянию, все это постепенно и незаметно, но верно и постоянно рисует линии уродства в их сердцах.[37]
Вордсворт был откровенным критиком новых форм массовой культуры, в частности журналистики. Говоря о “унизительной жажде возмутительной стимуляции”, он осудил как продукт, так и потребителя:
..множество причин, неизвестных в прежние времена, теперь действуют с объединенной силой, притупляя различающие способности ума и делая его непригодным для любых добровольных усилий, приводя его в состояние почти дикого оцепенения. Наиболее действенными из этих причин являются великие национальные события, которые происходят ежедневно, и растущее скопление людей в городах, где однообразие их занятий порождает тягу к экстраординарным происшествиям, которую ежечасно удовлетворяет быстрая передача разведданных. К этой тенденции жизни и нравов следует отнести литературные и театральные выставки страны, которые соответствовали друг другу. (1963: 249, из его предисловия к 1800 году)
Писатели и врачи того периода были против даже мелочей в общественной жизни молодежи, общественной или частной: детских вечеринок, позднего бодрствования, “щенячьей любви”, “непринужденных” разговоров (включая разговоры о бойфрендах, любви и браке), против “драмы бального зала”, “глупое” написание писем между мальчиками и девочками, взаимная привязанность между девочками и танцы — не столько сам танец, сколько опасность для молодых женщин подвергнуться воздействию мужского “животного магнетизма” (Халлер и Халлер 1974: 100ff). Уильям Фостер стремился разрушить то, что он считал “заговором молчания” (1914:5), который допускал эксплуатацию секса в популярной культуре. Он чувствовал, что любая попытка ослабить контроль над сексуальными желаниями нанесет ущерб личности и “расе”. Он продолжает с тем же описанием , которое цитировал Роу;
В поисках невинных развлечений молодые люди едва ли могут избежать контакта с развлечениями, хитро придуманными для возбуждения сексуальных импульсов и в то же время для снижения уважения к женщине. ... Особенно опасн, это салуны, бильярдные, танцевальные залы, кафе-мороженое, придорожные кафе и парки развлечений. Как мужчины, так и женщины - враги порядочности, часто посещают эти курорты. Часто это школы сексуальной безнравственности с умными и настойчивыми учителями. (1914;19f)
Двум из них было уделено особое внимание: танцевальному залу и кинотеатрам, причем последние появились в самом начале. Самый распространенный способ “разорения”, “с их согласия или без него”, был в общественном танцевальном зале: “Молодые люди, размягченные алкоголем, которые не могут унять разгоревшуюся страсть, уходят из ярко освещенных залов и выходят во тьму ночи” (Roe 1910:94). Луиза де Ковен Боуэн (1911) исследовала 278 клубов с участием 86 000 человек; большинство из них были мужчинами в возрасте от 16 до 18 лет и женщинами в возрасте от 14 до 16 лет. Она понимала, что молодым женщинам нужен социальный отдых, но считала, что танцевальный зал “вреден для здоровья”. Преподобный Эрнест Белл написал о “Сиамских близнецах дьявола” (“ликер и похоть”), сказав: “Употребление алкоголя почти смертельно для добродетели молодой девушки. Разрушители девушек почти неизменно побуждают их пить и танцевать” (Roe 1911: 323). Большое жюри Рокфеллера сказало вот что о раннем кино и кинотеатрах.
..хотя закон предусматривает, что ни одному ребенку младше шестнадцати лет не разрешается посещать их без сопровождения родителя или опекуна, количество арестов и обвинительных приговоров свидетельствует о том, что закон часто нарушается. ... несмотря на действия властей по наблюдению за этими заведениями, многие девушки обязаны своим разорением частому посещению их. [В] деле обвиняемой, обвиняемой этим большим жюри и осужденной… три девушки познакомились со столькими же молодыми людьми на гарлемском киносеансе. В конце представления служащий заведения отвел молодых людей через заднюю дверь в смежное здание… где они познакомились с девушками, и все вместе провели ночь. Общество по предотвращению жестокого обращения с детьми предоставило статистические данные, показывающие, что с 13 декабря 1906 года в кинотеатрах было зарегистрировано 33 случая изнасилования и совращения... (Roe 1911: 234)
С момента своего появления в качестве узнаваемой формы роман также обвинялся в подрыве чувства собственного достоинства и цивилизации, утверждался как особо опасноный для молодежи.[38] Считалось, что романы “развращают” умы и жизни юных читателей, обычно женщин. На фоне социального и эмоционального переосмысления общественного и частного, поощрение романом интроспективного мышления и личных ощущений было предано анафеме.[39] Чтение романов девятнадцатого века было связано со страхом мастурбации, и романы считались ответственными за его возникновение. Защитники чистоты осудили романтический роман как наносящий вред физическому и эмоциональному (точнее, духовному) здоровью. Романы могли вызывать истерию, болезни и “порочные привычки“, Пайкетт сказал, что критики сенсационных романов 19-го века, ориентированных на молодых женщин, что в них представлены только ”неестественные", девиантные и извращенные действия, они были направлены на пассивных и уязвимых потребителей и были предназначены только для возбуждения тела (1992: 30ff; Миллер 1987). Эйвери (1965:18) предлагает этот текст из романа мисс М. Вудленд, Повесть о предупреждении, или Жертвы лени (1810). Героиня, Агата, так много читает романов, что пренебрегает своим ребенком, который впоследствии умирает. Затем она осознает, что натворила, но уже слишком поздно!
Ее разум и тело, ставшие особенно слабыми из-за фатального потворства лени, пошатнулись под тяжестью страшного конфликта; она упала без чувств на пол!! ... У нее началась мозговая горячка, и после нескольких дней мучительных мук она скончалась на руках своего убитого горем, но все еще любящего мужа!!!
На самом деле, виной всему были возможности воображения, поощряемые чтением. “Блуждающее воображение” могло бы привести к “представлениям”, которые “загрязняют воображение” и дают девочкам “ложные представления о жизни”, что представляет реальную опасность для общества, озабоченного своим национальным статусом, социальными отношениями и личной неприкосновенностью своих англо-христианских граждан".[40] Мастурбация была осуждена в 19 веке, помимо традиционного страха перед удовольствием, главным образом потому, что оно было связано с “выдуманными удовольствиями”, “ускользающими миражами” и ментальными фантомами (Халлер и Халлер 1974:202), короче говоря, частным воображением и развитием фантазии, в которой множество личностей и другие взаимодействовали в экспериментальных или запрещенных отношениях.
Осуждение массовой культуры, безусловно, возникло не в 19 веке. Подобные жалобы восходят к векам до христианской эры. Языческие критики предостерегали от публичных увеселений, опасаясь потери общественного и частного достоинства и чести. Тацит жаловался, что римская массовая культура была не более чем “импортированной [греческой] распущенностью”; “...наша молодежь под влиянием иностранных вкусов выродится в приверженцев гимназий, праздности и бесчестных любовей”. Он был уверен, что “среди беспорядочной толпы каждый самый гнусный распутник мог бы отважиться в темноте на поступок, к которому он стремился при свете” (1951:139, книга XIV, xx). Предвосхищая критиков 19-го века, он предположил почти за две тысячи лет до этого, что “именно эта перспектива свободы привлекала большинство” на подобные мероприятия (стр. 139, книга XIV, xxi). Сенека заметил, что “ничто так не вредит хорошему характеру, как привычка бездельничать на играх” (Spectaculo 1979:31, письмо VII). Христиане охотно приняли эту точку зрения и добавили понятия греха, отвращения к себе (“низкой самооценки”) и ненависти к телу. Тертуллиан, говоря о популярных зрелищах, которые, по мнению зрителей и участников, были “осквернены оскверненными” (1984: 255ff). Сальвиан чувствовал, что
все преступления и пороки [можно] найти в амфитеатрах, концертных залах, играх, парадах, атлетах, канатоходцах, пантомимах и других чудовищах, о которых стыдно говорить, поскольку стыдно даже знать о таком зле... Сам факт, что они запрещают описание, показывает, какой великий грех во всем этом есть.
Подобно более поздним критикам, Сальвиан чувствовал, что просто находиться в присутствии такой “мерзости” загрязняя окружающую среду; "Непристойности зрелищ сами по себе влекут за собой одинаковую вину актеров и зрителей" (1966: 162f). Связь прямая и абсолютная, точка зрения, которой придерживались на протяжении двадцати столетий. В своей "Исповеди" Августин рассказал историю об Алипии, которого товарищи против его воли увели посмотреть на гладиаторские игры. Сначала он просто закрыл глаза, но рев толпы заставил его открыть их, и он увидел сцену, которую Августин не описывает. Нам говорят, что “его душе нанесли рану более смертельную”, чем любая, нанесенная на игровом поле. Алипий становится одержимым, ”просто одним из толпы“. Он остается до конца игр, а когда он уходил, Августин сказал: "Он увлекся с ними и больной разум, который не давал ему покоя, пока он снова не возвращался...ведя новых овец на заклание” (1961: 121ff).
Долгая история гражданского и религиозного подавления культурных развлечений во многом является частью классового конфликта, а также религиозной ревности из-за объектов и эмоций, конкурирующих за духовную преданность клиентов духовенства. Театральные постановки были резко осуждены, и, по словам основателя методизма Джона А.С. Уэсли в 1764 году, они “подрывают основы всей религии... дают неверный поворот для молодежи” (Wickham 1963:II:23). Некоторые традиционные детские развлечения, такие как кукольные представления, песни и танцевальные игры, в 17 веке назывались “неприличными”. Популярные развлечения, как правило, подавлялись в Англии в первой половине 17-го века, хотя с 1660 года до конца 18-го века к ним проявляли некоторое снисхождение, когда они снова подверглись нападкам и были запрещены протестантами и Католиками. Когда толпы людей пришли насладиться этими развлечениями, “публичный характер” самого собрания приобрел дурную славу по двум причинам: люди вели себя плохо, а окружающая среда, как считалось, способствовала “греховному, языческому, непристойному [и] пагубному развращению”, которое поощряло, особенно среди молодежи, всевозможные виды аморального поведения.[41] Не все общественные увеселения подвергались осуждению. Считалось, что некоторые из них могут быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить более подходящие, “здоровые” развлечения для публики. Они также могут быть очень полезны, когда вызывают беспокойство поведения молодежи. Герцог Ньюкаслский писал Карлу II в 17 веке, что
они должны быть [артистами], чтобы поднимать и опускать прилавок… Разделение позабавит народы, которые его изучают, и удержит их в Безобидном действии, которое освободит ваше Величество от фракций и Восстаний. (Сталлибрасс и Уайт 1986:73)
Вскоре после истерии белых рабов, во время одного из самых интенсивных политических погромов в этой стране (“Красная паника”, с середины подросткового возраста до 1920-х годов), антинародные настроения в культуре использовали многие темы белых рабов в качестве доказательства демонической силы джаза и популярной музыки. Музыка и “джазовые танцы” способствовали ”нездоровому возбуждению", приводящему к сексуальному “холокосту незаконнорожденных".[42] Тексты песен были названы непристойными и , как считалось, поощряли употребление наркотиков, насилие и безумие. В другой отссылке во время паники белых рабынь, джаз, как говорили, был связан (неустановленными путями) с 65 000 девочками, которые числились пропавшими без вести в 1921 году (Анонимн 1922). Музыка была особенно пагубной, потому что она была прямым результатом “негритянского влияния”. Считалось, что прослушивание и особенно танцы под джаз наносят непоправимую травму молодежи.
Любой, кто говорит, что “молодежь обоих полов может общаться в тесном кругу объятий” — с переплетенными конечностями и соприкасающимся туловищем — без причинения вреда лжи. Добавьте к этой позе извивающиеся движения и чувственную стимуляцию отвратительного джазового оркестра с его минорами в стиле вуду-борн и его прямое обращение к сенсорному центру, и если вы верите, что молодость после этого опыта такая же, как и раньше, то да поможет Бог вашему ребенку. (Макмахон, 1921)
Макмахон, редактор журнала "Леди хоум джорнал", выступала за запрет джаза, и к концу 1920-х годов в ряде городов было запрещено его публичное исполнение. В 1930-х и 1940-х годах использовались почти все те же мотивы, что и в развлекательных СМИ, особенно фильмы, вновь стали мишенью для моральных блюстителей. Цензура была повсеместной, и оправданием снова были дети.[43] После небольшого спада в середине 1940-х годов, после Второй мировой войны условия способствовали возрождению этих тревог. Женщин нужно было вернуть домой, а молодежь все еще была настроена на войну, но могла участвовать только в корейском “конфликте”. Добавляя нервозности металлическую нотку, можно было также услышать непрекращающийся ритм, пульсирующий под все более настойчивое бренчание электрогитар.
Многие воспоминания все еще свежи, и широко доступны рассказы об ужасах, которые, как говорят, можно найти в американской популярной культуре 1950-х годов, особенно в комиксах и музыке. Менее известна в Соединенных Штатах аналогичная британская кампания против комиксов, развернувшаяся в то же время сразу после критики и запрета Американских фильмов ужасов, которые, как считалось, наводняют Англию и развращают население. Баркер продемонстрировал долговечность и широкое признание используемых образов и тактик в обеих странах. Именно энергичная преданность молодежи привела к большей напуганости наблюдателей, и, что неудивительно, все образы угрозы, которые ушли до того, как были переработаны.[44] ”Зависимость" стала одним из основных объяснений. В хорошо заезженной последовательности читатели комиксов вскоре стали бы искать “другие способы удовлетворения своих порочных вкусов” (Баркер 1984:77, цитируя автора, выступавшего против комиксов в 1955 году). Читатели комиксов остаются в состоянии полного опустошения, привязаны к неизлечимой зависимости или, по крайней мере, прокляты “неспособностью понимать хорошую литературу и наслаждаться ею” (Аноним, 1954).
В Америке и в некоторой степени в Англии с начала 1940-х по начало 1960-х годов “малолетний преступник” стал навязчивым объектом воздействия массовой культуры на молодежь. Делинквент был непосредственно вызван популярной культурой того времени, верой, постоянно пропагандируемой с помощью развлекательных средств массовой информации - журналов, газет, книг и фильмов (Гилберт 1986: 4). Как и в 1980-х годах, когда разразилась истерия сексуального насилия, либералы и консерваторы объединились, чтобы обвинить в социальных бедах несколько однородных причин, связанных неизбежными линейными цепочками. Столь же популярные считалось, что культура вездесуща, поэтому и преступность стала ее продуктом. Это стало — чем же еще? — “эпидемией”. Но, как и с точки зрения сексуального насилия, это стало чем-то большим, чем просто увеличение числа жертв. Из-за того, что подростки и малолетние дети слишком рано начали вести себя слишком по-взрослому и такими похожими способами, это стало заговором, подпольем, чем-то вне нормального общества и против него. Популярная культура была и причиной, и выражением, полная скрытых смыслов и кодов для заговорщиков. Гражданские группы, правительственные комитеты и журналисты — все начали представлять свои страхи, и как только увидели, что они представлены, стали еще больше бояться своего собственного отражения. ФБР Гувера было самым паникерским, особенно возбуждаясь при столкновении с молодыми женщинами -“правонарушительницами”. Гувер направил морально негодующую риторику агентства и видения конца света на проблему молодежи и, как свидетельствует молодежная культура комиксов и музыки, на угрозу молодежи.
Популярная песня всегда вызывала немало осуждения. Основные опасения в 1980-х годах были связаны с поощрением употребления наркотиков или празднованием Сатаны, но было много стандартных опасений по поводу сексуальной стимуляции детей популярной музыкой. В широко известной книге ученый Аллан Блум посвятил несколько страниц коварству рок-музыки, изобразив юных фэнов-подростков как бездумных рецепторов сексуальных сообщений. Коррумпированное, технологически изощренное общество породило “достигшего половой зрелости ребенка, тело которого пульсирует в ритмах оргазма”, - сказал он (1987:75). Начиная с конца 1994 года телевизионная станция в Сан-Антонио, штат Техас, начала кампанию против подростковых “грязных танцев” в местном клубе, предлагая в каждой новости показывать кадры "танца зла". Клуб был в конце концов закрыт под их давлением, но телеканал утверждал, что они не регулировали мораль, а только защищали молодых уязвимых девушек от “хищников”, которые могли “скрываться” на улицах после закрытия клуба.[45] Консультативный совет Генерального прокурора США по делам пропавших детей обвинил педофилов в растлении молодежи (как и ожидалось), но также предупредил, что необходимо уделять внимание массовым развлечениям и культуре сверстников, поскольку они могут “предложить уход от традиционных семейных ценностей и от родительского контроля", тенденция защищать и изолировать детей от вредных влияний”.[46] Критики продолжали говорить, что “кризис ценностей” развращает детей (Медведь 1992:3). Продюсеры поп-культуры “оторваны” от значений “средней Американской семьи. Средства массовой информации полны ”подлости и потакания своим желаниям“ и противоречат ”общепринятым представлениям о приличиях" (стр. 10). Что еще более важно, изображения “влияют на поведение в реальной жизни”, - сказал Медведь, и в этой степени должны строго регулироваться и/или доступ детей к ним должен быть ограничен.
Риторика девятнадцатого века назвала массовую культуру “непристойной", и эта характеристика продолжалась и в нынешнем столетии. Лайндекер сказал, что самые яркие молодые кинозвезды современности - жертвы "грязных детских фантазий, тонко замаскированных под искусство" (1983b), а рекламна Calvin Klein 1995 года, упомянутая в главе 2, является еще одним примером. Но больше, чем просто присутствие детей в популярной культуре, многие взрослые беспокоились и паниковали их влиянию и последствиям. В конце 1985 года Американская ассоциация звукозаписывающей индустрии уступила настояниям консервативных и религиозных родителей, многие из которых организованы Типпером Гором и Центром музыкальных ресурсов для родителей (PMRC). Предупреждающие надписи должны были быть добавлены к рок-альбомам, рекомендующие покупателям “Родительское руководство: откровенные тексты песен“.[47] Сразу после своего избрания демократ Билл Клинтон осудил ”банализацию секса и насилия“ и "намекнул, что он мог бы присоединиться к кампании Типпера Гора, чтобы заставить индустрия звукозаписи создать рейтинговую систему.[48]
Сан-Антонио, штат Техас, был первым городом в стране, где промоутеры музыки и театра объявили преступлением разрешение лицам младше 13 лет посещать без родителей представление, в котором упоминалось насилие и/или “незаконный” секс. Постановление распространялось не только на рок-концерты, но и на все мюзиклы, танцы, драмы и любые другие театральные представления, проводимые в городских учреждениях. Детский психолог Роберт Демски предположил, что 15-летний возраст является пределом для защиты детей. “Это не цензура”, - настаивал мэр Генри Сиснерос (Phillips, 1985). Один местный обозреватель спросил, имеют ли рок-певцы право “выкрикивать слова из четырех букв и делать явно сексуальные предложения 12-летним детям. ... Должен ли 10-летний ребенок подвергаться садомазохизму... мир взрослых в какой—то мере обязан предотвращать эмоциональное и психологическое насилие над детьми - будь то в печати, в кино или рок-н-ролл” (Стинсон, 1985). Ни один цивилизованный взрослый не захочет видеть, как дети в возрасте 13 лет и младше подвергаются такого рода непристойностям и безудержному иконоборчеству, извергаемым из уст некоторых современных рок-звезд хэви-метала. .. мэр и муниципальный совет пользуются твердой и широкой общественной поддержкой... в своем новом смелом крестовом походе в защиту ушек-раковин и нежной, впечатлительной психики маленьких мальчиков и девочек”, - писал другой обозреватель (Thompson, 1985).
Следующим концертом сезона был концерт группы Kiss, особенно популярной среди подростков. На нем присутствовали два городских чиновника и местная группа. Сообщество “Семьи в действии” отправило несколько наблюдателей, чтобы они записывали любые тексты, которые были "кричащими", и передавали их властям для принятия мер. Группа была обеспокоена употреблением наркотиков, но больше “оскорбительными словами”, и “наводящие на размышления выходки, подталкивающие детей к совершению сексуальных посягательств” (Р. Смит, 1985). Критики этого постановления подверглись своего рода злобным обзывательствам, которые были нормой для 1980-х годов (Stinson 1985, 1986). Связь между музыкой как угрозой для детей и сексуализирующей модой, упомянутой в главе 2, была показана в редакционной карикатуре "Конституция Atlanta" Майка Лакковика (перепечатано в "Нью-Йорк таймс", 11 октября 1992 г., стр. IV-4), на которой певица и актриса Мадонна распахивает свое пальто перед детской игровой площадкой. Рядом с ней в мультфильме стоит мужчина, который тоже выставляет себя напоказ перед детьми, которые говорят ей: “Проваливай! Это моя игровая площадка!” Материалы сексуального характера стали знаком и символом всего, что было не так в обществе. Мортон Хилл, С. Дж., один из основателей "Морали в СМИ", написал в письме-обращении от 2 августа 1984 года: “Слезы навернулись на глаза, когда я прочитал это письмо от скорбящей матери:”
Мой 14-летний сын подвергся сильному влиянию порнографии из-за давления сверстников в нашем маленьком городке. Наши родительские усилия, похоже, не помогают. Сейчас он находится в психиатрическом отделении, где ему попытаются помочь и разобраться во всем. Я глубоко верю в ваше дело.
Хилл сказал: “письма, подобные этому, приходят мне на стол каждую неделю”. В 1980-х годах это была популярная и влиятельная группа религиозных консерваторов, и они широко использовали изображения, особенно в призывах к сбору средств. В письме обращении от 7 мая 1990 года президент Джозеф Дж. Рейли-младший спрашивал: “...как долго невинные женщины и дети должны терпеть ужасы и трагедии, причиняемые наркоманами порнографии каждый божий день?” Добавил он.
Пагубные соблазны порнографии повсюду — по кабельному телевидению, в видеомагазинах, в вашем местном круглосуточном магазине, в кинотеатрах для “взрослых”, даже через продажу музыки, которая прославляет грубый, недочеловеческий секс и сексуальное насилие. Запасы слизи и непристойностей огромны. Тогда неудивительно, что 70% порнографии попадает в руки детей.
Рождественское обращение фонда 1989 года было посвящено популярной в то время теме детского секса.[49] На фоне изображений детских радостей курортного сезона изображен вторгающийся фотограф, разрушающий души детей, в результате чего получаются “дети, чьи жизни были настолько испорчены порнографией, что они потеряли все чувства невинности и удивления. Когда они теряют всякую надежду, многие из них совершают правонарушения, вымещая свое разочарование на сексуальных домогательствах к другим детям”. Как и ожидалось, приводится ряд примеров. Восьмилетний мальчик из Далласа сказал, что начал приставать к другим детям после того, как посмотрел несколько порнографических фильмов. 12-летний Майам 5-ти классник сказал, что он почерпнул идеи о гомосексуалистской деятельности “из кабельного телевидения.[50] Яркость и зарево Рождества контрастируют с “грязными комнатами по всей этой стране, [где] маленьких детей и подростков принуждают к извращенным сексуальным действиям", действия перед камерой фотографа. Свет их драгоценной невинности меркнет во тьме — возможно, навсегда” (23 ноября 1988).
Наконец, оскорбительными и пугающими были не только формы и содержание популярной культуры, но и то, как они продавались. Критика в адрес рекламы была спорадической, но темы неизменны. Подобные жалобы начали широко распространяться в 19 веке, а критика капитализма, направленная против детей, значительно возросла после Второй мировой войны. Гуларт видел, что дети “подвергаются нападкам, эксплуатировались” и подвергались “нападкам”; процесс их взросления блокировался и “уводился в сторону”. Если говорить более серьезно, то детей “совращали”. Рекламодатели хотели привить детям такие качества, как “эгоизм, импульсивность, гламурность... простодушность, неконтролируемую агрессивность и предрассудки”. Мировая война была основной причиной этого “жестокого обращения с детьми и эксплуатация их”, потому что это изменило семейные устои, породило бунтарскую молодежную культуру и дало молодежи новый достаток (1969:3, 9, 13). Гуларт был нацелен на все популярные средства массовой информации, включая игрушки и сухие завтраки, предупреждая о психологическом и физическом вреде. В том же духе Лео (1995) направил жалобы на рекламу Calvin Klein 1995 года рекламодателям и корпоративной нечувствительности. Рекламодатели достигают своих рынков, пропагандируя “зацикленность на себе, нарциссизм и презрение ко всем правилам”. Лео чувствовал, что это разрушает узы взаимного уважения и сотрудничества, создавая хаотичное, жестокосердное общество. По-видимому, следуя примеру Гуларта, в мае 1997 года Федеральная торговая комиссия подала обвинения против табачной компании R. J. Reynolds в том, что их мультипликационный персонаж “Джо Кэмел” представлял собой незаконную попытку “склонить” детей к курению; фигура, появившаяся на американской сцене в 1987 году, была отозвана в июле 1997 года. В романе Руссо "Day Care," была прямая связь рекламы с педофилией, написанная в разгар паники. Один персонаж жалуется на то, что другие члены его семьи добиваются работы моделью и актером для его 4-летнего ребенка:
мы с вами видели, как бессовестно могут использовать детей на рынке. Я не хочу, чтобы моя дочь перегорела к девяти годам или лапают и балуют педофилы, которые думают, что попка ребенка - это как раз то, что нужно для продажи их дизайнерских джинсов. (1985:55)
В конце 1980-х и начале 1990-х годов возобновились попытки продавать товары детям, поскольку маркетологи вышли далеко за рамки обычных игрушек, одежды, продуктов питания и электронного оборудования. Некоторым наблюдателям инвентаризация понравилась (Moore, 1990), в то время как другие выпустили стандартное “Руководство для родителей".[51] “Ты должен познакомиться с ними молодыми” было “маркетинговой мантрой 90-х”. Существует множество документов, подтверждающих, что “широкий спектр товаров появляется в широком спектре качества и вкуса”, ориентированный на детей-потребителей (Moore, 1990). Но для реализации мерчендайзинга с детьми обращаются таким образом, который можно было бы законно выразить языком, описывавшим предполагаемые намерения и последствия педофильских отношений в предыдущем десятилетии.
Маркетинг для детей достиг уровня академической специальности, с курсами и текстами, предлагающими инструкции о том, “как маркетинговые стратегии могут успешно влиять на детей”. Это была аннотация к последней книге профессора Джеймса Макнил (1992; см. 1991), один из наиболее широко публикуемых разработчиками методов поиска подходящих детей, слежения за ними, манипулирования изображениями с целью получения от них денег и привязки их к продуктам посредством “лояльности к бренду”. Лист (1992) подробно описывает, как охватить детей и оказывать на них влияние, используя такие слова, как “эффективность”, “цели” (любимый термин в антипедофильских повествованиях) и так далее. Лист отмечает интересный сдвиг, происходящий в начале 1990-х годов, они отошли от прежнего акцента на визуальные медиа для детей к культивированию лояльности печатных СМИ. Chicago Tribune, борец с заговорами педофилов, упоминается как одна из многих газет, создавших специальные разделы для детей, которые “пытаются выработать ежедневную привычку” читательской аудитории: “до тех пор, пока дети остаются предпочтительным сегментом рынка, возможности СМИ для них должны становиться все более многочисленными, изощренными и целенаправленными”, - сказал Лист (1992: 47).
Некоторые маркетинговые фирмы предлагали специальные базы данных о детях, отобранные и ориентированные на “геодемографию”. Реклама на задней обложке Polk Direct в Advertising Age (63[30-июля 27], стр. 44, 1992) показывает фотографию маленького мальчика, сопровождаемую рядом артефактов и одежды, и перечисляет некоторые “геодемографические данные”, представляющие интерес для маркетологов:
Имеет двух старших сестер, владельцев видеомагнитофонов, играет в видеоигры, имеет домашний компьютер, у семьи есть мотоцикл, ездит в походы на автомобиле для отдыха. Смотрит спортивные передачи по телевизору, у семьи есть лодка, мама и папа оба работают, домашнее хозяйство, отвечающее на почту, мать зовут Кэтлин, отца зовут Мэтью, переехавший из Чикаго в Финикс в прошлом году, живет в очень хорошей семье, у мамы и папы есть собственный дом.
Напомним, что навязчивое ведение учета было излюбленным обвинением в адрес педофилов и якобы отличало их от того, что называлось “нормальным населением”. В начале 1992 года Advertising Age выпустила специальный выпуск “Маркетинг для детей” с рядом статей, восхваляющих успешные стратегии получения доступа к детям: “Промежуточное время" на NBC: телеканал начинает раннюю трансляцию обновленного детского списка;”[52] “Фокус-группы - ключ к охвату детей;"[53] “Увлекающийся исследованиями Ник [сеть Nickelodeon] демонстрирует сильную привлекательность для детей;"[54] "Пока дети разговаривают, журналы читают между строк;"[55] “10 советов от топ-менеджера агентства: исполнительный директор объясняет, как Гриффин Бакал находит общий язык с детьми."[56]
В самих объявлениях в журнале также содержались заявления от СМИ и агентства, хвастающиеся своей способностью привлекать и предоставлять услуги детям (по спецификации) заинтересованным маркетологам: Modem agency,[57] Scholastic magazine,[58] MSW-Child Исследовательские службы (“Самый обширный банк нормативных данных в отрасли”). Turner Toons (“Если вы ищете детей, вы были бы "Даффи", отправляясь куда-нибудь еще”). Информационный бюллетень “Маркетинг для детей”, “Семинары для молодых потребителей”, проводимые доктором Лангбумом Растом и Кэрол Хайатт (“Эксперты в области детской психологии"), NBC ("Лучший способ найти подростков с момента изобретения торгового центра”), Censydiam [Центр систематической диагностики в маркетинге] (“Маркетинг для детей в Европе, углубленное исследование первичных механизмов, использование методов фантазии”) и многое другое. Предсказуемая реакция породила несколько защитных стратегий, направленных на то, чтобы избежать соблазнения и эксплуатации, даже физического вреда, причиняемого детям (и их родителям) такой рекламой (Sussman 1990), но проблема никогда не вызывала широкого и устойчивого негодования, в основном из-за того, что популярные СМИ, которые не принадлежат напрямую к более крупным корпорациям, работающие на сырьевых товарах, и зависят от доходов от рекламы для своего экономического и духовного благополучия.
5
КОРНИ СЕКСУАЛЬНОГО ИЗВЕРГА
I
У современных предков растлителя 1980-х годов есть предшественники, сексуальные фигуры, которые сохраняли репрезентативную последовательность на протяжении нескольких тысяч лет. Одни из самых ранних встречаются в текстах, датируемых восьмым веком до христианской эры, "Греческой сатиры". Сатиры - сыновья бога Силен, который является уродливым пьяным развратником. Они безобидны — трусливы и неряшливы, как правило, смешны и озорны, хотя и очаровательны. Похотливые, они ненасытны и без вкуса. Они проводят время за выпивкой, музицируя, танцуя и гоняясь за нимфами, похожими на детей молодыми девушками-подростками, которые разделяли их пасторальную утопию. Первоначально сатиры изображались в виде пожилых мужчин, но с течением времени фигуры становились моложе, и их видели скачущими с обнаженными мальчиками (Сейфферт 1895:560, рис. 3; Лиссарраг 1990:81, рис. 2.29). Эти фигуры были центрами жанра греческой драмы, сатирических пьес, примерно с 500 г. до н.э., возникшего из Дионисийских ритуалов. Актеры носили гротескные маски и были обнажены, за исключением огромного эрегированного искусственного фаллоса. Во времена Римской империи также появились юные сатиры женского пола, обладающие теми же общими характеристиками, что и мужчины, но, похоже, их изображали не так часто.
Сатир был одной из нескольких фигур, используемых христианами для создания дьявола. Прославленные удовольствия стали демоническими: они были переосмыслены как насильственные и нарушающие права человека, угрожающие личной жизни и социальным институтам. Была создана более широкая пропасть, отделяющая людей от других представителей животного мира, отсюда преувеличение козлиноподобных качеств сатира в качестве основных признаков дьявола. Сатир стал ассоциироваться с человекообразными обезьянами, а также со средневековым Диким человеком и Дикой Женщиной. В средние века сатиры ассоциировались с ведьмами и евреями. Демонические элементы сатиры сохранялись до начала 17-го века, когда наблюдается их смягчение, но потребность в демоническом сохранялась и в 19-м веке. К концу столетия власти дали название этим существам для нового официального психиатрического заболевания, “сатириаз”, которое использовалось, по крайней мере, до середины 20-го века. В древние времена существовало несколько деревенских божеств-козлов, населявших естественные места обитания и сверхъестественные пейзажи. Одним из них был Пан, божество, похожее на сатира; опасное для людей, он мог вызывать “слепой неразумный ужас” в массах людей: “панику”. Пан также был очень сексуально активной фигурой, такой же, если не более ненасытной, чем сатиры. Подойдет любое млекопитающее, хотя, по-видимому, предпочтение отдается кровосмесительству для коз. Пан также начинал как пожилой мужчина, но со временем стал моложе, и его показывали флиртующим с маленькими мальчиками.[1] Пан также стал строчной буквой и множественным числом, а женщина-пан появились в более поздней греческой истории, изображаемая игривой, флиртующей с молодыми подростками. Римское божество Фавн принадлежал к линии Пана, и его молодые последователи мужского и женского пола, фавны, также продолжили традицию паники, будучи способными вызывать ночные кошмары. Эти фигуры послужили основой для развития инкубов и суккубов, поскольку христианство продолжало брать верх и переосмысливать свои языческие корни, а божества превращались в фигуры зла.
Интересная фигура появляется в греческой драме начиная с 4 века до н. э., которая внесла свой вклад в современную концепцию педофила. Сенекс аматоре был развратным пожилым любовником, которого сейчас называют “грязным стариком”. Фигура была комической, объектом насмешек, шутом под прозрачной маской респектабельности; эти качества были более полно развиты в римском театре за два столетия до христианской эры. Тогда этот персонаж появлялся лишь эпизодически до начала XVI века, когда фигура стала одной из тематических опор итальянской комедии де Арте. К 17 веку, особенно во Франции, сенекс аматоре стал еще более отвратительным существом: похотливым, жадным и начинающим воплощать то, что могло бы появляются позже как идея разврата. К предыдущим конструкциям сенекса, как визуально, так и текстуально, не относились жестко, но к 1600-м годам к персонажу было применено суровое клеймо и наказание. Эта роль “узурпирует законы природы и общества, даже когда они должны были бы изящно удалиться с человеческой сцены. Это неумеренное использование их власти и богатства для удовлетворения неконтролируемой страсти лишило их надежды и искупления” (Крейвен 1988: 1175). В 18 веке сенексские ходули содержали комедийные элементы, но бурлеск смягчен и расширен, включив в него более широкий спектр пороков и непристойностей. Однако идея “тирании богатой старости" продолжала усиливаться. К концу 18-го века сенекс все еще был опасным и авторитарным, но сексуальное хищничество было поглощено и отодвинуто на второй план следующим крупным сексуальным зверем — развратника.
II
Сексуальное влечение в 17-м и 18-м веках и даже в начале 19-го века было признано некоторыми как здоровый, полностью человеческий интерес и поощрялось несколькими авторитетами; клитор был даже признан за его важность (Халлер и Халлер 1974: 92ff). Но другие характеризовали эти взгляды как “вседозволяющие”, и сексуальный злодей был необходим, чтобы персонифицировать нарушение приличий и криминализировать желание. Либертинизм (безбожные развратники), как лингвистический термин, обычно обозначал какое-то неодобрительное сексуальное отношение или деятельность, но его употребление было разнообразным. Либертины” могут относиться к политическим радикалам, выступающим за ранний коммунизм христианства, или к тем, кто призывал к ослаблению ограничений на развод, или к приверженцам чувственности. Пользователи этого выражения с 16-го века были менее озабочены эмпирическим описанием, чем решением проблем, связанных с конкретными значениями и ролями, путем стигматизации и санкционирования наказаний козла отпущения.
Янг (1966: 222ff) описывает либертинизм как состоящий из двух основных течений, каждое из которых имеет подразделения, некоторые из которых сформулированы в виде явных философий, другие - нет. Первая линия - это линия с сильной религиозной приверженностью. Со времен раннего Христианство примерно в 17 веке появляется то, что можно описать только как христианские сексуальные культы, такие как последователи Карпократа 2-го века и то, что Янг называет другими “распущенными гностиками”, “Кровавые" 16-го века. Друзья”, части католицизма эпохи барокко с его образами “искупительной плоти” (Hsia 1988: 129, 218), а также разглагольствования 17-го века и некоторых сатанистов. Эти группы обычно утверждали, что секс раскрывает более высокий и истинный взгляд на Бога и спасение. Существовало два взгляда на это, оба основывались на версиях ближневосточного дуализма. Один, более негативный, рассматривал сексуальное желание как материалистическую и демоническую силу, которая может быть подчинена человеческой и божественной воле путем личного и общественного потворства. Другая, менее распространенная среди христиан, рассматривала сексуальность как по сути благотворную и верила, что экстаз - это путь к божеству, в некоторых отношениях схожий с частями тантрического буддизма. Хотя большинство сект были патриархальными и женоненавистническими, многих женщин привлекали эти варианты христианства, потому что они могли осуществлять более широкое социальное существование (Геринг 1988). Критики Паулины полагали, что эти секты, особенно первой разновидности, практиковали табуированные отношения. Говорят, что гомосексуальность, инцест и секс с несовершеннолетними особенно поощряются в христианских сексуальных религиях. Это описание приписывается наблюдателю 2-го века:
В особый день они собираются на праздник со всеми своими детьми, сестрами, матерями, всех полов и возрастов. ..разгоряченные банкетом после такого пиршества и попойки, они начинают пылать кровосмесительными страстями. Они провоцируют собаку, привязанную к фонарному столбу, прыгнуть и броситься к кусочку еды, который они бросили вне досягаемости ее цепи. Таким образом, свет опрокидывается и гаснет, а вместе с ним и всеобщее знание об их действиях; в бесстыдной темноте и с невыразимой похотью они совокупляются в случайных союзах, все в равной степени виновны в кровосмешении, некоторые по поступку, но все по соучастию.[2]
С 13 по 15 века в Европе существовали движения, которые вольно назывались "Свободный дух", ересь, энергично преследуемая, но широко популярная и сопротивлялись церковной власти. Движение было фрагментированным и в целом неорганизованным, и поэтому верования и практика различались. Как обычно, многое из того, что известно о сектах, исходит от разъяренных критиков, одним из самых громких и влиятельных из которых был Джон Кальвин. По его словам, Свободные духи интерпретировали Священное Писание только в своих собственных целях, возвысили субъективную направленность религии, чтобы оправдать поведение, которое было потаканием своим желаниям, разрушительным и “детским”, и практиковали форму коммунизма, при которой все принадлежит всем. Кроме того, свободно. Спириты жили в соответствии с философией, которая рассматривала “каждую склонность в человеке... как призвание Божье”. Это санкционированное сексуальное поведение Кальвин называл “злодейским развратом”.[3] Хотя большинство верующих не прилагали никаких усилий к сокрытию и часто громко проповедовали свою философию, предположения о ереси требуют изображения тайны и логического обмана. Власти предупреждали о заговоре, одновременно подтверждая свои собственные способности восприятия:
Трудно распознать таких людей, если только человек не является божественно просветленным и не обладает способностью различать духов и божественную истину. Они являются чрезвычайно утонченные и умеющие скрывать под внешностью или оправданиями те из своих верований, которые противоречат Богу.[4]
Другой разновидностью религиозного либертинизма была та, которая, с одной стороны, отвергала христианство, но принимала его концепции ада и проклятия как реальные и неизбежные. Эта разновидность получила больше дурной славы и поношений, главным образом из-за своего основного персонажа, Rake позднего Ренессанса и Реставрации. Rake был симпатичной и часто комической фигурой, хотя ему недоставало глупости старшего поколения senex amatore. Легкомысленный и потакающий своим желаниям Rake обладал качествами маниакальной интенсивности, включая повышенную чувственность и неразборчивость в связях, бросая вызов все еще популярным тогда целибату и псевдомоногамным идеалам куртуазной любви. Rake важен также из-за его ассоциаций с поведением и атмосферой, которые, как говорили, способствуют сексуальной распущенности: “убожество, пьянство, стыд и громкий смех” (Young 1966: 231). Опьянение и громкий смех восходят к Классическим временам, но элементы стыда и убожества, точнее, городские, дополнения, и они остались привязанными к образу сексуального изверга по настоящее время. В то время как некоторые элементы образа Rake были перенесены на Либертина следующего столетия, сущность Rake в большей степени повлияла на развитие образов денди и декадента конца 19-го века.
Второй основной разновидностью либертинизма, которую выделяет Янг, является нерелигиозный или атеистический тип, и этот тип чаще всего относят к 18 веку. Секс для многих здесь был способом физического и духовного выражения привязанности и ценности, ориентированные на человека, между отдельными людьми и социальными группами. Секс был тогда и остается сейчас для тех, кто придерживается этих традиционных ценностей, способом взаимного получения естественного человеческого удовольствия. Этот взгляд лишен чувства вины, унижения и “убожества” и, как указывает Янг, лишен “романтического обморока и тоски” (1966: 241), форм, которые желание обычно принимает в западном обществе. Однако другая ветвь этой формы либертинизма воплощает жестокость и эксплуатацию, хотя большая часть упрощенной критики либертинизма приписывает эти элементы всем формам.
В этой версии Распутник, мужчина или женщина, был полностью предан эгоистичному потаканию чувствам. Отношения были преходящими, поверхностными и эгоцентричными. Сексуальными объектами могут быть кто угодно или что угодно, чего желает Распутник, независимо от желаний “объекта”. Важным акцентом был либертин как циничный и хищный искуситель, совратитель и эксплуататор молодых и невинных; популярными мишенями были те молодые люди, у которых только что появились “первые проблески желания” (Hilliard 1979). Французский роман "Опасные связи", книга Шодерло де Лакло (1782), в которой исследовалась одержимость распутника завоеваниями, господством и манипуляциями, продолжают читать и экранизировать, что указывает на популярность смысла в западной культуре на протяжении более двухсот лет.[5] Роман рассматривался как прославление и пропаганда либертинизма, но на самом деле это произведение является критикой, и как переосмысление либертинизма с точки зрения буржуазной морали использовалось в качестве оправдания борьбы с либертинизмом в целом и его искоренения. Ассоциации восемнадцатого века с “безответственным богатством и бесполезностью власти” с “бесцельной и безответственной элегантностью” (Янг 1966: 245ff, 250, 236) подпитывали образы распущенности и разврата 19-го века.
У образа сексуального распутника есть несколько корней, и прямые связи восходят к веселым людям четырнадцатого века из "Декамерона" и "Кентерберийских рассказов". Основные признаки преемственности появились в 16 веке с появлением английских разглагольствователей и их предположением о связях со старым движением свободного духа, а также с "Гаргантюа" Франсуа Рабле (1534), который обеспечил лозунг, используемый многими начинающими распутниками: “Делай, что хочешь”.[6] 17-й век предоставил больше элементов, сцен, в которых гармоничные пасторальные пейзажи и сентиментальность прошлых времен разрушаются разрушительным сексуальным зверем. Часть конфликта между деревней и городом, развивавшегося в то время, использовала образ Rake и развратника для обозначения растущего морального разделения между двумя средами (Новак, 1977). Лотарио появляется чуть позже, в роли персонажа с таким именем в пьесе Николаса Роу. Прекрасная кающаяся грешница (1703). Испания предложила фигуру Дон Жуана (Франция продолжила развитие образа), а Италия представила более добродушного Казанову в автобиографии Джакомо Казановы (1798). Дон Жуан как персонаж появился на американской сцене в 1790-х годах. С тех пор Распутник широко фигурирует в пьесах, романах, фильмах, автобиографиях и социальной критике на протяжении всего 20-го века без каких-либо признаков устаревания.
В конце 18-го века были широко распространены пессимистические и болезненные представления о себе и обществе. Распутник, артефакт этих взглядов, был представлен либо как одна из нескольких причин, либо как главная причина того, что считалось социальной дезинтеграцией. Оптимизм (своего рода) нашел некоторое выражение в революционных движениях конца века, но ожесточение многих других представителей широкого политического спектра нашло выражение в резко очерченных образах сексуальной угрозы. Философы и полиция начали уделять пристальное внимание содержанию внутреннего характера и взаимоотношений Распутника и их значение для общества. Распутник, очевидно, был за “свободу”. Это означало разные вещи для разных людей, и критики использовали эту фигуру, чтобы воплотить, разыграть и получить наказание за усиление тревог, связанных с человеческой сексуальностью. Эта так называемая свобода сексуального поведения угрожала обществу из-за отказа от межличностных привязанностей, игнорирования и даже отрицания социальных конвенций в отношении различных сексуальных и социальных отношений. Лично я считаю, что Либертины были поверхностны, им не хватало способности заботиться о других людях или уважать их; они были тщеславны и самовлюбленны. Что больше всего пугало в либертинах, особенно с учетом того, что их, казалось, становилось все больше и больше, так это их произвол. Распутник был случайным в своих отношениях и всегда находился в движении без четкого якоря, привязанности или верности: само определение сексуальной распущенности и преступного насилия.
Неспособность “любить” ощущалась как неотъемлемая. Движущая энергия либертинизма вышла из-под контроля, не сдерживаемая общественным сознанием. В частности интерес был вызван беспокойством, связанным с расширением и безграничностью воображения. Перед невыразимым было невообразимое, но это было в течение этого периода формы, встречающиеся в снах и ночных кошмарах, стало более осязаемыми и видимыми в бодрствующей жизни. Хотя в тот период было мало или вообще не существовало понятия “лечение”, у него были сильные идеи о “спасении” и он был очень озабочен исправлением ереси и богохульства. Как индивидуализм, так и идеи романтической любви росли и распространялись среди среднего и высшего классов XVII и XVIII веков. В 18 веке две идеологии иногда были совместимы, иногда противоречили друг другу, что приводило к значительной путанице.
В течение 18 века, возможно, наблюдался рост сексуальной активности, наряду с неотделимыми изменениями в установках и восприятии сексуальности. Зарегистрированные показатели незаконнорожденности начали неуклонно расти с начала 1700-х годов до конца 19-го века, усиливая представления о разрушении сексуальной морали (Laslett 1980). По мере того как границы, определяющие приемлемое поведение, менялись (особенно в отношении пола), поведение и идеи, приписываемые развратникам (которые всегда были там и на относительно одинаковых уровнях заболеваемости и частоты), казались более крупными и угрожающими, чем они были на самом деле. Когда слово “желание” использовалось в 17-м и 18-м веках, его первоначальными значениями были откровенные и экстравагантные проявления сексуальной страсти, которые нарушали каноны вкуса и морали, побуждения более ненормальные, ”чем мы думаем сегодня" (Hilliard 1979). Качества зла и смерти все больше привязывались к сексуальным проявлениям на протяжении 18 века, проявляясь в откровенных и гротескных текстах как художественной, так и научно-популярной литературы. Секс рассматривался как прикрытие жадности и власти, полученной обманом и силой. Развитие романтической любви в 19 веке помогло отречься от сексуальности и присоединило ее к разработке концепций насилия и разрушения. Термин ”удовлетворять", часто применяемый к педофилам 1980-х годов, был связан с сексом в начале 18 века, чтобы охарактеризовать его как корыстную, насильственную всепоглощающую похоть, лишенную всякого эмпатического содержания (Ричетти 1969: 205).
Социальные критики начали придумывать способы, которыми можно было бы привлечь внимание к сексуальным интересам под управлением социального порядка, а если нет, то как их можно было бы устранить. Предлагались компромиссы; можно было быть распутником, но вежливым и ответственным членом общества - такое видение отличало некоторые типы английского либертинизма от европейских моделей (Бриссенден 1974: 86ff). Респектабельный распутник смотрел свысока на безмозглого сластолюбца и помогал в преследовании откровенных, ярких развратников. Но некоторые распутники начали формулировать философии и теории, с помощью которых они могли сознательно устанавливать себя отдельно от других слоев общества, если не в оппозиции к ним. Распутники были так же тесно связаны с атеизмом, как и с антиобщественным сексом. В то время как ряд сатанински и псевдосатанинские группы стали популярными в конце 18 века, большинству свободомыслящих идея божеств вообще не нравилась. Однако для некоторых развратников богохульство над священным, включая невинных, оставалось главным развлечением. Либертины были воплощением индивидуализма, и частью их парада было выставление напоказ своего образа жизни и насмешки над ценностями своей аудитории.
Либертинизм был презрительным отрешением от общепринятых символических порядков и превращением в автономную личность, которое рассматривается как заблуждающееся и бредящее, изолированное существо, подлежащее удалению из политического тела. Одной из предполагаемых основных характеристик либертинизма является то, что он использует аргументы для оправдания нетрадиционного или антиобщественного поведения, особенно сексуального. Либертинизм конца 17-го и начала 18-го веков прямо отрицал официальные взгляды, настаивая на том, что секс был естественным и не должен подавляться. Эксперименты поощрялись, особенно среди молодежи, а целомудрие и девственность, по словам развратников, были лицемерными и вредными для физического и духовного здоровья. Отрицая концепции сексуального греха, тело и дух были приближены к взаимной гармонии; законы были скорее неестественными составляющими человеческой жизни, чем разновидностями человеческих чувств.[7] Пропагандировался индивидуализм, подчеркивающий примат личных “инстинктов” и желаний над социальными условностями и общественным сотрудничеством. Расширение этого требовало отрицания сопереживания и сострадания. Это было как реакцией против, так и проявлением продолжающегося развития сентиментализма 18-го века, который придавал особое значение чувствам и эмоциям. Однако к концу столетия сентиментализм стал означать тщательно продуманную демонстрацию поверхностных поз, которые маскировали истинные эмоции; сексуальность была прочно отнесена к последней сфере, и меняющееся определение сентиментальности помогло создать театральность сексуального поведения, особенно в его менее одобряемых обществом формах в 19 веке.[8]
Отчасти это изменение в сторону большей негативности усилилось в конце 18-го века, особенно во время распространения работ де Сада в 1790-х годах. Степень сексуального насилия в его произведениях вызывала беспокойство и отвращение у многих.[9] По мере того как де Сад и другие писатели развивали жанр “порнографии”, личность распутника все больше и больше представлялась как грязная, преступная и неуравновешенная.[10] Изображения извержений и взрывов стали занимательными и необходимыми. "120 дней Содома" де Сада, написанная около 1785 года, повествует о четырех развратниках, которые добиваются своего с восемью мальчиками и восемью девочками в возрасте от 12 до 14 лет, все они были предоставлены группой нянек для детей; в конце концов молодежь убивают. То, что изображено на фото, - это секретная, подпольная сфера, управляемая потакающими своим желаниям аморальными богачами. Слухи о таких личностях и группах циркулировали в 18 веке, включая рассказы о развратных аристократах, которые похищали детей, убивали их, а затем купались в их крови в целях регенерации (Фуко 1980:223). Сексуальные звери разделены на четырех главных персонажей: один из них - сущностный монстр с большими пропорциями похоти и жестокости (герцог), другой (Епископ) болезнен, но расчетлив в своих “утонченных пороках”, другой (герцог Президент) является воплощением всех физических проявлений грязи: фекалий, метеоризма и других влажных выделений организма, а последний - женоподобный, мягкий, сладкий и пухлый, импотент, но чей разум представляет собой бурлящую выгребную яму порочности.
Однако, как и во всех жанрах, распад на множественности может представлять собой не столько постмодернистскую фрагментацию, сколько попытку рестабилизации к большему прочно закреплять характеристики в узнаваемых типах в условиях меняющегося социального порядка, сохраняя при этом последовательные и предсказуемые элементы прошлого. В 18 веке главной проблемой было то, что люди, казалось, превращались в “множественные личности” (или, по крайней мере, все больше проявляли их). Пагубные последствия и социальная подрывная деятельность популярных маскарадов беспокоили многих в то время (Новак 1973). Предшественник внушающего страх “самоуверенного человека” 19-го века, замаскированная фигура с повышенным уровнем личной и социальной тревожности в XVIII веке, сосредоточенная на ощущении, что доступные роли и структуры социального порядка того времени не позволяли выразить “истинное я”, возникло ощущение, что благодаря возможности не только замаскироваться, но и продемонстрировать эту маскировку в обществе, также будет проявлена некоторая доля правды. Это было утверждение философии (позже ставшей клише) “истины, открываемой обманом”, противопоставленной более обычной официальной позиции (как в правительстве, так и в журналистике) “обмана, раскрываемого истиной” (Касл 1986: 5, 1987).
Избегание культурных условностей начало рассматриваться в конце XVIII века как биологическая патология, индивидуализированная болезнь, но в то же время симптоматичная для более широкого расового вырождения. Фуко (1980: 221) предположил, что идея “извращения” 19-го века была подкреплена идеей конца 18-го - начала 19-го века об “инстинкте”, врожденном необратимом биологическом влечении. Некоторые считали сексуальное злодейство сверхъестественным в некотором развлекательном смысле (готика как жанр появилась в конце 1700-х), но к началу 1800-х дискурсы сексуальности были сильны и очерчены достаточно четко, чтобы их формы и культурное местоположение сегодня оставались почти идентичными, признанными за их историю, потому что они разрушаются не только из-за сдвигов в постакадемическую мысль и отношения, но и потому, что они пусты по своей сути. Дэвидсон (1987:22) приводит доводы в пользу развития в 19 веке того, что он называет “психиатрическим стилем рассуждения”, который был основан на акценте того периода на различиях между внешним видом и внешней формой (более старый взгляд) и более новом акценте на внутреннем содержании. Более новый “психиатрический стиль” отдавал приоритет внутренним движущим силам, таким как вкусы, желания и другие психические факторы. Теология против распутника 18-го века уступила место Психологии против извращенца 19-го века.
III
Дон Жуан и его соратники-распутники продолжили с некоторыми изменениями в 19 веке. Акцент на опасности для невинных увеличился, но сам Дон Жуан утратил некоторые из своих демонических черт, став более романтичным. Дон Жуан 18 века был убит Богом за свои прегрешения, но в 1800-х годах он был приведен в светское правосудие, которое делало упор на исповедь и раскаяние. Позже в этом столетии, Дон Жуан перешел к концовкам, похожим на "сенекс", он закончил жизнь горьким и импотентом, комической и патетической фигурой. Соблазнитель, существовавший с классических времен, приобрел особое значение в современном мире Западные культуры. Фидлер считал, что миф о соблазнении исторически ограничен, появляется и исчезает в соответствии с культурной целесообразностью и потребностью. “Тем не менее, - отметил он, - даже в стесненных обстоятельствах он сохраняет некоторые остатки своей легендарной мощи и может в любой момент достичь непредвиденный всенародный успех” (1966:84). Все элементы классического соблазнения — потеря, насилие, доминирование и подчинение, страдание, унижение — снова вошли в игру в 1980-х годах, чтобы выразить личные переживания и социальный дискомфорт и предоставить обществу захватывающее зрелище. Формы восемнадцатого века несут в себе большинство элементов, знакомых нам сегодня.
Мужчины-соблазнители зачитывают списки своих завоеваний и используют специальные вспомогательные средства алкоголь или наркотики, музыку, тексты и изображения. Как часть его дьявольщины, он является трикстер, и он постоянно этим занимается; подобно другому злодею 18-го века, вампиру, он ненасытен. Начиная с 18-го века и по настоящее время социальные и административные проблемы постоянно привлекают внимание к присутствию и важности соблазнителя, и, в частности, к вовлеченности этой фигуры в молодежную жизнь. Литтл (1988) проводит полезное различие между развратником и соблазнителем. Развратник обладал общими качествами сексуального агрессора, но его спасало то, что он был восприимчив к апелляциям религии и “врожденной доброте”, его реформаторские способности служат данью героическим и божественным качествам женщин и детей (Brown 1940:27). Развратник - это проявление дурного вкуса, неуклюжий, неотесанный и, следовательно, не вводящий в заблуждение. С другой стороны, соблазнитель, особенно в 19 веке, имел в виду не просто достижение сексуальных отношений обманом, но и разрушение целостности жертвы (Халттунен 1982:6). В контексте расширяющейся и развивающейся экономики это представляло серьезную угрозу персонажу, необходимому для поддержания существования Америки, и ставило под угрозу физическую основу самой “расы” (Smokin 1967: глава 1; Бейлин 1967:56). В конце 19 века женщина стала символом национальных и культурных устремлений; преступления против женщин стали преступлениями против нации, против человечества и против предопределенного богом космоса. Соблазнитель позорит женщин. Он отрывает их от их институциональных связей с семьей, божеством, страной и гендерной ролью; он уводит невинных с пути правильного развития. Вот типичное изображение:
Соблазнитель лишает несчастную жертву характера, морали, счастья, надежды и рая; порабощает ее вечным рабством греха; поглощает ее за гробом мире в бесконечном огне; и убивает ее душу вечной смертью. (Дуайт I818:IV:250)
За унижением следует оставление, еще одна травма, намеренно нанесенная, по сути, по определению, Соблазнителем. Эти темы благополучно дожили до конца 20-го века. Идея “убийства души” - это та, которую мы видели часто и точно таким же образом 150 лет спустя в истерии сексуального насилия 1980-х годов. Идея самосуда уже давно оправдана. Из известного раннего американского романа Липпарда, Город квакеров:
Совращение бедной и невинной девушки - деяние столь же преступное, как и преднамеренное убийство. Это хуже, чем убийство тела, ибо это убийство души. Если убийца заслуживает смерти на виселице, то посягатель на целомудрие и девственность достоин смерти от рук любого мужчины и в любом месте. (1845:206)
Уже в первой половине 18-го века Соблазнитель приобретает сатанинский характер, в основном благодаря готическому жанру, где невинность дьявольски преследуется в причудливой, сюрреалистической и эротической атмосфере властным мужчиной, склонным к порабощению молодой невинной женщины. Конец 19-го века, 18-й век Сатанинский персонаж был переведен в светские словари психопатологии и криминологии, особенно серийный убийца, и порабощение было заменено убийственным разрушением. В Америке даже самые ранние соблазнительные истории были связаны с темами смерти и насилия, рассказанными с помощью христианской риторики и образов. Литература уделяет “больше внимания реализму внезапной смерти”, чем сексу, сказал Дэвис, и он казался озадаченным тем, что этого “никогда не было удовлетворительно объяснено”. С конца 18-го века до середины 19-го “соблазнение означало убийство; далее, по его словам, “было что-то новое в пронзительной настойчивости в том, что сексуальные ошибки, насилие и убийства были частями одного неумолимого процесса” (Дэвис, 1957; 147f, 156).
Схожей фигурой, появившейся с современной урбанизацией и фигурирующей во многих историях конца 19-го века, был маргинальный и одинокий “преследующий незнакомец” (Gross 1989). Скрывающийся Соблазнитель означал непосредственную угрозу смерти. В 1980-х годах эта фигура была распространена в популярной среде благодаря так называемым фильмам "сталкер" или "слэшер", в которых взрослый (из-за какой-то детской травмы), обладающий великими или сверхъестественными способностями, возвращается, чтобы преследовать, охотиться и рубить молодежь Америки перед кричащей аудиторией дошкольников и подростков. Комплексный набор мотивов был во многом таким же, как и в случае с педофиломи: угроза исходит изнутри сообщества, власти слабы и неэффективны, а герои и героинюшки вынуждены прибегать к насилию, чтобы спасти себя и избавить общество от угрозы. Один аналитик считает, что большинство рассказов о сталкерах основаны на социальных и сексуальных предположениях, общих консервативных мировоззрений.[11] Соблазнителя осуждают за его злую натуру, хотя для некоторых женщин он был своего рода героем. Особенно в условиях растущей городской экономики Америки начала 19-го века Соблазнитель делал в сексуальном плане то, что делалось в политике, промышленности и финансах. Противоположность, моралист, был непривлекателен для многих женщин того времени (Дэвидсон, 1987), а более мягкие или комичные формы Соблазнителя привлекали как фантазию, так и поведение.
Начиная с 12 века, аспекты раскаяния, ревности и самоубийства использовались для определения как враждебности Соблазнителя, так и трагедии Жертвы. Начиная с 18 века, особое внимание уделяется соблазнению как обману, особенно в его преднамеренном планировании и исполнении, а также подчеркивается несправедливость и неравенство власти (Стейвз 1980:116). Соблазнитель рассматривается как особенно коварный в вопросах языка и логики, распространитель ложных доктрин, которые убедительно преподносятся многими мужчинами. Используя “чрезвычайно сложный эстетический дискурс, Соблазнитель использует “афродизиакальную силу языка”, - сказал Литтл (1988: 1166). Этот аспект становится особенно важным во времена культурных споров о знании и власти. Одним из величайших страхов перед соблазнением начиная с 18 века была возможность философского и психологического соблазнения, а также сексуального подчинение (Richetti 1984). И все же, поскольку многие аргументы, используемые Соблазнителем были “иррациональны”, Соблазнителю в конечном счете пришлось прибегнуть к тому, что Дэвис называет восторженным представлением образов “возвышенной природы, используемых для пробуждения примитивной и дикой натуры женщины” (1957: 159). В 18-м и 19-м веках чтение романов считалось сексуально подрывным занятием, и у компетентного соблазнителя всегда было наготове несколько захватывающих книг, с помощью которых он мог возбудить страсть своей избранницы. Встревоженные общественные наблюдатели считали их неотразимыми.
Женщины-соблазнительницы появляются в 17-м и 18-м веках, и большая часть эротики того времени изображала соблазнение молодежи руками женщин. Это относится к 19 веку, в котором разрабатываются как женщины-соблазнительницы, так и сама идея соблазнения. Распутник по-прежнему активен и ищет развлечений, но теперь есть и более благожелательные поиски идеалов, таких как идеальная поэма, идеальная женщина, идеальное завоевание (Литтл, 1988). Сентиментальность того периода, однако, требовала, чтобы все эти стремления заканчивались неудачей и страданиями других, невинность стала более изощренной в прославлении жертвенности. Соблазнитель в более поздних версиях также был продуктом того, что Коминос называет идеологией соблазнения, появившейся в середине 19-го века как способ объяснить — или отмести — сексуальные интересы и поведение женщин, которые затем отрицались большинством авторитетов.[12] Кроме того, это помогло объяснить и оправдать широко распространенное существование проституции в 19 веке, рассматривая проституток как конечный продукт соблазнения, а не результат экономических условий, патриархальные амбиции и власть, и/или как предпочтительное занятие, которым наслаждаются или равнодушно воспринимают сами женщины. В середине 19-го века считалось, что женщины абсолютно невинны, а в соблазнении виноваты только мужчины, во многом так же, как утверждение детской невинности в сексе между взрослыми и молодежью. Однако к концу столетия женщины стали гораздо более злодейскими, и их рассматривали как активных соучастниц или единственных подстрекателей к соблазнению; приписывание невиновности перешло к мужчинам, поскольку они стали жертвами женщин. Далее, злодейские качества женщин Соблазнителей были перенесены в образ Пьяницы в разгар подъема Движений за трезвость. Считалось, что напиток вызывает соблазнение (предлагалось вместо феминистских обвинений в мужском поведении того времени), и Соблазнитель стал фигурой с маленькой буквой “с". Но мотивы, приемы и последствия остались, готовые для привязки к другим образам сексуального изверга.
IV
"Распутник" в том виде, в каком его сконструировали критики, уже подготовил почву для декадента 19-го века. Этот ярлык был скорее эпитетом (Gilman 1979), поскольку сферы угрозы остались в основном такими, какими их изобразил Либертин: моральными и политическими. Декадент, однако, поднял эстетику на такой уровень, что вызвал значительное беспокойство со стороны блюстителей морали общества. Это усугублялось гордым принятием термина “декадент” в качестве позитивной личностной идентичности, что делало отказ от господствующих ценностей более явным, эффективным и желательным, особенно для молодежи, начинающей создавать богему среднего класса. Согласно Гилману (1979: 103), декаданс в 19 веке включал богохульство вообще и сатанизм в частности, сексуальная извращенность, одержимость болезнью нервозности 19-го века (“неврастенией”), скука, ностальгия по испорченному, принимающая форму прославления реального или воображаемого древнего экзотического великолепия и излишеств, презрение к “естественности” как врагу трансцендентности, взгляд на демократию и “прогресс” как на глупые и коварные, а также навязчивое культивирование вкуса. Образов в первой половине 19 века было предостаточно. Готика продолжалась, но к ней присоединились мелодрамы и сенсационные романы, все из которых пропагандируют образы неподобающего поведения как опасного, особенно сексуального, ”приверженцев ненасытной и вызывающей отвращение похоти", наполнили культуру текстами и визуальными эффектами.[13] Классический образ отмечен Бертом (1980: 153) в романе Г. В. М. Рейнольдса “Тайны Лондона" 1844 года, в котором умирающий "сморщенный, изможденный и ослабленный” сластолюбец лежит, положив свою гротескную голову на грудь молодой и здоровой девушки.[14] Эдгар Аллен По несколько ранее были установлены важнейшие элементы такого рода декаданса в "Лиге" (1838) и “Маска красной смерти» (1842), последняя содержала критерии "много прекрасного, много распутного, много странного, кое-что ужасное и немало того, что могло бы вызвать отвращение."[15]
В 1895 году Оскар Уайльд был воспринят как воплощение сексуального и социального декаданса. Все, что делал и говорил этот человек, воспринималось как знак, как доказательство того, что разложение, порождаемое декадансом, было ощутимым, реальным, широко распространенным и организованным (о нем говорили как о “главаре”; Хайд 1948:12). Уайльд олицетворял собой второстепенную фигуру денди, олицетворяющую жеманство, эгоизм, предполагаемое превосходство, безответственность и поверхностность, которые начали появляться в конце 18 века. Это разнообразие мужских образов, с его щегольским акцентом на внешность и стиль, противопоставляло андрогинность и женоподобие определениям мужественности, которые в то время были востребованы индустриализацией и колониальными военными авантюрами. Ко второй половине 19-го века денди слился с декадентством и олицетворял все, что было оскорбительным и подрывным. Для американцев эта фигура была угрозой Европы и урбанизации, всего иностранного, урбанистического и аморального.[16] И старого. Америка всегда гордилась тем, что является чем-то “новым”, и с экономическим расширением производства и маркетинга в конце 19-го века “старость” (вещей и людей) стала подвергаться все большему очернению. Декадентский денди конца 19-го века был негодяем, сексуальным плутом, жестокость которого не имела для него большого значения, а оскорбительность и вульгарность - незначительного значения. Что еще больше приводило в ярость, так это то, что это существо было активным соблазнителем молодежи. Такое презрение и богохульство, брошенные в лицо цивилизованному обществу, потребовали возмездия и изгнания нечистой силы. “Декадент” из эпитета превратился в классификацию, затем в симптом. Это было состояние, при котором искали болезнь, и таковая была быстро создана. Декаданс стал частью большей угрозы был: извращенец.
Наряду с инцестом гомосексуальность была одной из наиболее частых тем извращений, ”как первоначально задумывалось, была нетрадиционной для декадентских текстов.[17] Позже это стало рассматриваться как отход от обычной практики и ответных мер, серьезное неестественное отклонение, отрицание официальных и божественных сексуальных и моральных интересов, смыслов и способностей. Уровни активности были измерены и рассчитаны, а границы нормального и ненормального определены путем атрибуции извращений. Считалось, что действия такого рода представляют угрозу дому, семье, нации и человечеству (или, по крайней мере, белой расе) в целом. Но гомосексуальность была не единственным декадентским удовольствием. Вместе с де Садом садомазохист (названный так позже в этом столетии) стал еще одной классической фигурой извращения. Педофилия оставалась устойчивой к тому, чтобы ее легко было назвать до конца 20-го века, в основном из-за других отвлекающих факторов. Для 19-го века гомосексуалист, роковая женщина и сексуальный ребенок были самыми большими опасностями. Даже более поздние обследования избегали этой идеи. Хотя Ридж назвал все остальные категории сексуальности, он процитировал пару французских текстов (1961: 134ff), которые касаются секса между молодежью и взрослыми, не видя “педофилии”. В одном романе Французская писательница, известная как “Рашильда” (1923), в детстве “без разбора” знакомит соседских детей с сексом и “пытается заняться любовью с деревенским священником именно в исповедальне. И ей это почти удается”. Ридж назвал это случаем “нимфомании”. Другой - роман Мендеса (1892), который Ридж назвал “забавной историей ужасов”. Художник средних лет влюбляется в
женщину, которая по возрасту годится ему в матери (возвращение к инцесту), но внезапно очарована... героиней-нимфеткой Лилиан Форли, которая, кажется, была моделью для Лолиты. Предположительно, она ненасытная семнадцатилетняя девушка, которая была всеобщей любовницей. ... Позже мадам Лавелейн обнаруживает, что бедному ребенку всего десять лет — хотя и несколько старше своего возраста — аморальная девочка, чьи страсти сделали ее добровольной соучастницей мужской похоти. (стр. 136)
Секс между взрослыми и молодежью в массовом сознании 19-го века был подклассом декаданса и извращений; медицинские формулировки превратили популярное предубеждение в официальную политику. Столкнувшись с растущим плюрализмом, детализация различий стала первостепенной и необходимой для стабилизации сексуального поведения и интересов, гендерных ролей, а также наблюдения и контроля за детьми и молодежью. Различия, отдельные “сферы” стали атрибутом “естественного”, в то время как возможность одинаковости (равенство мужчин и женщин, однополая любовь и секс) были перенесены в расширяющуюся сферу “неестественного”. Гилман (1979:15) рассматривал декадентство как последнюю стадию болезненности для изображения чувственности и порока. На самом деле это было сделано для того, чтобы стало хуже с приходом дегенератов.
Идея дегенерации была как биологической, так и моральной концепцией, каждая из которых уходила корнями в 17 век. Моральная идея была основана на чувстве ослабления сопротивления всему, против чего предостерегали религиозные авторитеты того времени. Коттон Мэзер, Джон Коттон и другие выразили этот страх в Америке, предостерегая поселенцев еще в первой половине 17 века от того, чтобы они слишком уподоблялись туземцам, что рассматривалось как регресс, потеря морали и цивилизации. Дегенерация как идея нашла готовых потребителей у врачей, имеющих дело с теориями болезней (которых было много в 19 веке), а также с моралистами. Дегенерация была болезненным физическим разложением тела — физического или политического. В то время сексуальность имела стигматизированный статус, и было довольно легко и удобно видеть деструктивные элементы в сексуальной активности и установках. “Нормальное” стало жестко ориентировано на гетеросексуальную супружескую пару. Все остальное было “ненормальным”, а их участники и защитники находились в антагонистических сферах как “Другие”. Сексуальный дегенерат был совместим с представлениями о распутнике и декаденте, но опасности и насилие возросли, и были мобилизованы соответствующие силы для борьбы с проявлениями угроз. Основы, заложенные в 19 веке, продолжают привлекать тех, кто ищет объяснения чему угодно - от эксцентричности до насильственных преступлений.[18]
Вера в вырождение, стимулировала — требовала — неустанного поиска его причин, и в концептуальных структурах науки, философии и религии 19-го века это приняло форму строгих схем классификаций и типологии. Списки стигматов, основанные на религиозных корнях охоты за ересью, стали целью науки. Типы персонажей на сцене и в клинике закрепились в четко очерченных (если не особенно реальных) тяжелых чертах, которые сразу же стали узнаваемыми для большого числа людей. Наряду с этим была разработана столь же строгая эстетика порядка и рекомендации по регенеративным процессам для исправления или предотвращения распространения биологических и культурных заболеваний. Была предпринята попытка
объективизировать и отбросить целые подземные миры политической и социальной тревоги.... Доктора дегенерации считали само собой разумеющимся, что их работа была безличной. В рамках этого ритуального отречения социальные комментарии были преобразованы в “научную истину”. (Пик 1989; 10f)
Наиболее влиятельное изложение было сделано немецким врачом Максом Нордау. Его книга "Дегенерация" впервые появилась в 1892 году и привлекла большое внимание и заручилась поддержкой большого числа сторонников. Труды Нордау часто отвергаются как реакционные, но при ближайшем рассмотрении обнаруживается интересное сочетание позиций. Его идеи и характеристики были преувеличены, но полны праведного рвения вполне знакомой аудитории конца 20-го века. Нордау чувствовал, что в его исследовании была “прочно связанная цепь причин и следствий” (1895:43), а дегенерат представляет особую опасность для “впечатлительной молодежи”. В центре его внимания - конец 19-го века, время, которое означало “быть сладострастным"...необузданная похоть, освобождение зверя в человеке. "Распутники", казалось, становились все хуже и их становилось все больше; они заражали уязвимых и невинных людей. Нордау чувствовал, что это новый этап истории: неразбериха и ”лжепророки". ”Закат наций“ "окутывал все предметы в таинственном полумраке, в котором всякая определенность разрушается и любая догадка кажется правдоподобной. Формы теряют свои очертания и растворяются в плывущем тумане. День закончился, наступает ночь” (стр. 6).
Люди становятся поверхностными, искусственными, старомодными и конформистскими. Искусство — это “разврат”, литература - “просто сточные воды”, а акцент на сексе - “неестественный и дегенеративный” (стр. 9-13). Общество жаждало “более интенсивного стимула и надеется на это в зрелищах, где различные виды искусства стремятся в новых комбинациях воздействовать на все чувства сразу” (стр. 14). В качестве примеров он привел использование музыки для настроения на массовых выставках живописи и использование парфюмерных спреев в театральных представлениях. Нордау определил дегенерацию как “патологическое отклонение от первоначального типа”, проявляющееся в виде “так называемых ”стигматов"."Основываясь на физических и медицинских моделях, дегенерация представляла собой деформацию, асимметрию и несовершенство. Психически дегенераты - это “жители пограничья”.[19] Они были теми, кого Причард (1835) и другие с конца 18-го века до середины 20-го называли “моральными безумцами” или “морально отчужденные”, которых сегодня называют “социопатами”. Дегенераты имеют “склонность к бессмысленным мечтаниям”, ”туманно размытым идеям и зачаточным эмбриональным мыслям“, определяемым как ”постоянное запутывание безграничного, бесцельного и безбрежного потока беглых идей“, "беспорядочное смятение мыслей"...текучие презентации” и “нелицензионные занятия, разрешенные свободным бродяжничеством разума”, не говоря уже о “странных и бессмысленных идеях” (стр. 19ff).
Например, те, кто говорит о социализме и “эмансипации разума”, являются дегенераты и их разговоры - это просто “бессмысленное заикание и лепет невменяемых умов, и [это] не что иное, как конвульсии и спазмы истощения” (стр. 43). Дегенерат “неспособен приспособиться к существующим обстоятельствам... Таким образом, он становится улучшителем мира и разрабатывает планы, как сделать человечество счастливым...” (стр. 22, 261ff). В начале 19-го века, подобным наблюдениям за педофилами 1980-х годов, было отмечено, что одним из загадочных аспектов “морального безумия” было то, что дегенеративные индивидуумы могут быть полностью функциональными и действительно, очень способные, за исключением одной причуды - несанкционированных мыслей или сексуального интереса. Дегенераты - пленники своих навязчивых идей. Они “обладают непреодолимой тягой накапливать бесполезные мелочи" (стр. 27), поскольку предполагается, что педофилы являются навязчивыми хранителями записей и коллекционерами. Дегенерат имеет “склонность к формированию обществ...исключительно для посторонних”. Из-за сочетания слабовольных последователей и эгоистичных лидеров дегенераты вынуждены навязывать окружающим “безумные идеи”. Жертвы дегенератов становились “одержимыми”, обращенными в “больные идеи”. Причиной дегенерации является “отравление”: пристрастие (“даже без излишеств”) к наркотикам, алкоголю, “испорченной пище” - все это приводит к “идиотизму” и “карликовости”. Все это основано на городской жизни с ее стрессами и загрязнениями — биологическими, физическими и культурными.
Мораль, “организованный инстинкт” нормальных людей, является мишенью Дегенератов; “извращение” - это то, что работает против “нормальной” функции. Это была идея конца 17 века, вытекающая скорее из представления о болезни как о сбое и отклонении от естественной внутренней функции и предназначения организма, чем состояние, вызванное внешними факторами, например, микробами. “При извращении морального чувства пациента привлекают и он испытывает удовольствие от действий, которые наполняют нормального человека отвращением и ужасом”. Это, в сочетании с эгоманией, приводит к тому, что дегенерат становится тем, кто наслаждается преступлением, тем, кто по своей природе имеет “явную склонность ко злу” (стр. 259f, аналогично “предрасположенности” педофила к преступлению). Лекарства нет. Дегенерат - это тот, “для кого человечество не может найти применения” (стр. 23). Они должны быть изгнаны из общества, и любое проявление терпимости является признаком культурной болезни. Нордау призывает к героизму, поскольку “сейчас мы находимся в эпицентре серьезной психической эпидемии” (стр. 537). “Наш долг неустанно и всеми средствами... просвещать слабых в суждениях и неопытных. ... Священный долг всех здоровых и нравственных людей - принимать участие в работе по защите и спасению тех, кто еще не слишком серьезно болен” (стр. 556f). Перечислены цели; призыв к единству:
Мистики, но особенно эго-маньяки и грязные псевдореалисты, являются самыми страшными врагами общества. ... Тот, кто верит вместе со мной, что общество - это естественная органическая форма человечества, в которой только в нем она может существовать, процветать и продолжать развиваться к высшим целям; тот, кто смотрит на цивилизацию как на благо, имеющее ценность и заслуживающее защиты, должен безжалостно раздавить антисоциальных паразитов. Тому, кто, как и Ницше, с энтузиазмом относится к “свободно разгуливающему, вожделеющему хищному зверю”, мы кричим: “Убирайся прочь от цивилизации! .. Среди нас нет места похотливому хищному зверю; и если ты посмеешь вернуться к нам, мы безжалостно забьем тебя дубинками до смерти....
И еще более решительным должно быть сопротивление любящему грязь стаду свиней, профессиональным фотографам. Эти... свободно выбрали свое гнусное ремесло и занимаются им из алчности, тщеславия и ненависти к труду. Систематическое подстрекательство к разврату наносит серьезнейший ущерб физическому и психическому здоровью индивидов, а общество, состоящее из индивидов, сексуально чрезмерно возбужденных, не знающих никаких границ и самоконтроля, любая дисциплина, любой стыд идут к своей неминуемой гибели, потому что они слишком изношены и вялы, чтобы выполнять великие задачи. Помографист отравляет источники, из которых течет жизнь будущих поколений. Ни одна задача цивилизации не была столь мучительно трудоемкой, как подавление похоти. Специалист по помографии отнял бы у нас плоды этой тяжелейшей борьбы человечества. К нему мы не должны проявлять милосердия.[20]
Нордау указывает, что полиция не может помочь, потому что им слишком часто приходится действовать в интересах тех, кто не является “образованными и нравственными людьми”. Он предлагает гражданские обзоры и бойкоты: “Осуждение произведений, основанных на грязи, должно исходить от людей, которые свободны от предрассудков и имеют свободу мышления, интеллект и независимость, в этом ни у кого нет сомнений”. Эти группы, состоящие из “народных лидеров и инструкторов, профессоров, писателей, членов парламента, судей, высокопоставленных функционеров, обладающих достаточной культурой и вкусом”, будут рассматривать художественные произведения, "чтобы отличить... морально здорового художника от гнусного писаки-хулигана”. Если бы работа была признана безнравственной, группа сказала бы: “Он преступник”, а работа “позорит нашу нацию!” Продавцы, критики и потребители - все они отказались бы иметь дело с книгой или картиной и, таким образом, “лишили бы ”реалистов" возможности выставлять напоказ осуждение, основанное на преступлении против морали, в качестве знака отличия" (стр. 558f).
Затем он призывает “медицинских специалистов по невменяемости” продемонстрировать публике “психическое расстройство дегенеративных художников и авторов” (стр. 559f). То разрушающая мифы роль, которую взяли на себя теоретики жестокого обращения 1980-х годов, имеет давнюю традицию в этих героических представлениях о себе, роли, ставшие более резкими благодаря контрасту с разработанными силами зла. Истинные модемы отличаются от ложных своего рода “профилями”, которые всегда использовались в политических состязаниях, таких как состязания прошлых веков, а также в современных проблемах сексуальности и наркотиков.
...тот, кто проповедует отсутствие дисциплины, является врагом прогресса; и тот, кто поклоняется своему “я”, является врагом общества. Общество имеет в качестве своей первой предпосылки любовь к ближнему и способность к самопожертвованию; и прогресс - это результат все более жесткого подавления зверя в человеке, все более напряженного самоограничения, все более острого чувства долга и ответственности. Эмансипация, к которой мы стремимся, зависит от суждений, а не от аппетитов. В глубоко проникновенных словах Священного Писания (Matt, v. 17), “Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророчество; я пришел не разрушить, но исполнить”. (стр. 560)
Героизм легко отождествляется со сверхъестественным статусом, и он божественен авторитет, к которому стремятся для поддержания дихотомии между телом и разумом. Либертинное “Делай, что хочешь” было таким вызовом, что силам морального и поведенческого надзора приходилось постоянно переопределять себя в легитимные учреждения для эффективного контроля. Из более или менее монолитной сферы древнего духовенства регулирующие органы должны были поддерживать как священные, так и светские основы. Открытое влияние религии продолжало снижаться на протяжении всего 19-го века, и государству приходилось поддерживать такие институты, как медицина, психология и сексология, а также продолжать развивать обычные юридические и полицейские силы. Это стало особенно актуальным для борьбы с изобретением конца 19-го века - гомосексуалистами. Дегенераты были отделены от порядочных людей, которым было присуще чувство порядочности и морали. Те, кто нарушал это, были подрывниками, ненормальными и преступниками. Высказывания о “дегенерации”, радикализированном социальном дарвинизме, позволяют людям с “достаточной культурой и вкусом” собирать дегенератов и с чистой совестью забивать их дубинками до смерти.
6
ОБРАЗЫ КАК ЗРЕЛИЩА
I
События и образы 1980-х годов, рассмотренные в предыдущих главах, сочетают в себе ряд элементов, которые повышают их ценность и смысл. Для большего воздействия и эффективности изображения часто создаются с использованием определенных визуальных стратегий, поддерживающих текстовые формы и намерения. Для злодея-педофила существовало две основные сферы визуального представления: конкретные персонифицированные фигуры и обобщенные или абстрактные образы угрозы. Первая содержит конкретные изображения людей, фигуры, идентифицируемые как люди. Это могут быть актеры, играющие подлых педофилов, как и Ричард Мазур в телевизионной мелодраме 1981 года "Падший ангел", номинированной на премию "Эмми". На самом деле, очень популярны групповые снимки и другие полицейские и новостные фотографии растрепанных людей, обвиняемых в растлении детей (например, Cohn 1988). Этим фотографиям, включая людей в наручниках и/или в тюремной одежде, отдается предпочтение, чтобы передать нетрадиционность, нечистоплотность и дурной вкус арестованных. Полицейские фотографии помогают подтвердить опасность, преступность, волнение и героизм, которые предопределяют проблему и характеры, и когда их видят другие потенциальные присяжные, заседатели помогают определить исход судебного разбирательства.
Они также могут быть более или менее реалистично нарисованными фигурами, хотя многие из них превращаются в обобщенную угрозу.[1] Фигура “подонка” в романе Додсона (1980) нарисована на обложке лицом вперед, но он находится в тени и замаскирован отражающими солнечными очками. Растлитель из романа Миллара (1984) изображен на обложке достаточно четко, но он стоит спиной к зрителю, а шляпа и плащ закрывают почти все части его тела, наводя на мысль, что под маской цивилизации скрывается нечто нечеловеческое.[2] Вторая область репрезентации злодея, обобщенная угроза, может варьироваться от реалистичных до абстрактных и метафорических или символических образов. Среди первых, ведущих от персонифицированных репрезентаций, образ растлителя как тени. Примером последнего является тень на стене в издании романа Кларка в мягкой обложке 1979 года.
Среди изображений угроз классическим является мотив Сжимающей руки или когтя. В издании диснеевского романа 1965 года в мягкой обложке 1990 года использовалась комбинация Сжимающего Когтя и Тени, наложенной на фигуру молодой девушки. Это использовалось для хорошего эффекта на обложке книги Уэллса (1980) - рука в черной перчатке на чистом снежном фоне. Рисунок на обложке книги Додсона 1980 года также содержал этот второстепенный мотив, и он остается популярным графическим изображением (Plante 1989; Lara 1990). Макеты двух статей Дж. Эдгара Гувера (1937, 1947) содержали приятное воплощение этого образа.[3] Вариации также использованы на обложках двух книг Дж. Келлермана в мягкой обложке. В его романе 1985 года сжатый кулак изображен непосредственно на переднем плане, а в книге 1986 года кулак показан более явно, сминает белый (но с красным оттенком, как будто окровавленный) цветок. В специальном выпуске CBS "Нарушь тишину" (31 мая 1994) была показана когтистая рука, тянущаяся к перепуганному ребенку, сжимающему плюшевого мишку, классический образ истерии. Изображение когтя имеет давнюю историю и используется для обозначения чего-то чуждого, угрожающего, неизвестного, неожиданного, могущественного, подрывного и тиранического. Фильмы, в которых фигурировали отрубленные руки, связаны с мотивом когтей, обозначая разъединенное и бестелесное как внешнее проявление.[4]
В текстах, которые мы рассмотрели, хотя и немного меньше с вымышленным и больше, что касается фактов, то там были конкретные указания на предполагаемую респектабельность и условность растлителя. Янус в нескольких местах замечает, как люди были шокированы тем, что взрослые, имеющие дело с мальчиками, были “респектабельными”. (1981:15, 202f) Учитывая требования жанра, можно было бы ожидать, что описания злодеев будут более традиционными, с акцентом на уродство, отталкиваемость и гротескность. Отчасти этого можно добиться с помощью фотоснимков, но с новым акцентом на условности, с подтекстами секретности и подрывной деятельности, проблема заключается в том, как изобразить чудовищность без физического уродства. Относительно простым решением был любимый рисунок ухмыляющегося черепа под фасадом, часто используемый на обложках романов ужасов, особенно во время ренессанса жанра в 1970-х и 1980-х годах. На обложке романа Джонстона (1985) был изображен череп внутри плюшевого мишки, а на обложке книги Ситро был изображен череп за лицом клоуна.[5] Есть два основных способа связать образы злодеев с обыденностью. Один из них заключается в более тонких символических намеках на общепринятые представления, наряду с акцентом на контексте. Например, фигура на обложке романа Филдинга (1981) - это еще один мужчина в плаще, стоящий задом наперед, уводящий двух маленьких детей от зрителя на чистый белый фон, напоминающий стереотипы растлителя. Однако физически мужчина виден лучше, чем на других рисунках, потому что здесь речь идет о похищении родителями и влечет за собой остатки респектабельности, исходящие от гетеросексуальной семьи. Другой метод заключается в том, чтобы переложить бремя общения на объект внимания монстра: жертву.
Чтобы изобразить жертву, два подхода были особенно эффективны с эстетической и политической точек зрения. Как и в случае со злодеями, в одном из них использовалась человеческая фигура: дети в клипартах, особенно те, которые символизируют невинность. На обложке романа Кларка (1979) изображен маленький мальчик, играющий со своим паровозиком в уюте и святости своего дома. Точка зрения - это взгляд извне, копирующий точку зрения вуайериста, отстраненность Другого, которая усиливает ощущение вторжения в частную жизнь и нарушения неприкосновенности. Плачущие дети чаще всего используются, как в "Гувере" (1937, 1947), на обложках книг Келлермана (1985, 1986) или на любительском рисунке, сопровождающем синдицированную колонку Ройко (1987), в которой изображены заросшие щетиной лицо хмурого мужчины с хлыстом над плачущей девочкой с большими глазами. Фотографии Мэри Эллен Марк для книги Макколла "История жизни" (1984a) содержали клише испуганных, плачущих детей, которых успокаивают озабоченные терапевты. Фотография, сопровождавшая статью, рекламирующую телевизионный документальный фильм "Испуганный молчун", был крупный, высококонтрастный снимок головы мальчика со слегка поджатыми губами, печальным выражением лица и большими выделенными глазами, напоминающий работы Кинов (см. примечание 8). Иллюстрация, сопровождающая статью Эрлиха об азиатской детской проституции, изображает плачущую молодую азиатку, ее руки сложены в мольбе, в позе покорности, ищущей прощения, милосердия или спасения. Обложка книги Бойла о сексе между лидерами скаутов и скаутками - это непреднамеренно забавная иллюстрация в виде лица скаута в форме с грустными глазами и слезой, навернувшейся на один глаз. Одна интересная вариация этого изображения была использована в информационном бюллетене законов о жертвах жестокого обращения с детьми (VOCAL). Нарисованная от руки фигура плачущей девочки (с повязкой на щеке) видна выглядывающей из окна с подписью: “Они забрали меня у мамы и папы, потому что я попала в аварию. Я хочу домой”.[6]
Испуганный ребенок также был очень распространен, как на обложке романа Мерца "Палач" (1986). В выражении лица на этой обложке чувствуется испуг, но довольно тонко в рисунке также присутствует восхищение со стороны девочки, а легкий отголосок благоговейного трепета, испытываемого сражающимся героем в тексте. Испуганное лицо девочки на обложке книги Дорнера (1987) также изображает ребенка в рамке на фото, с которого капает кровь, подтверждая ассоциацию фотографий детского секса и фильмов о нюхательном табаке, а рука зажимает рот ребенка, сжимающий коготь наводит на мысль о невыразимом насилии и ужасе. Наконец, использование подростков в сексуальных картинках было еще одним способом продемонстрировать статус жертвы несовершеннолетнего, который был вовлечен в сексуальные отношения со взрослыми.[7] Основной элемент анти-взрослого/молодежного секса и анти-порнографические агитации 1970-х и 1980-х годов представляли собой передвижное слайд-шоу с фотографиями и артефактами, призванными вызвать отвращение и ярость зрителей, зрители читали печаль или страх в выражениях лиц, самопроверяющие утверждения о преступлениях и насилии, предположительно присущих такой сексуальной активности.[8]
Вторая область репрезентации жертвы включала использование символов детей, детства и невинности, обычно животных и артефактов, таких как куклы. Наиболее значимым символом был плюшевый мишка, который олицетворял невинность детства с момента его разработки и коммерческого распространения в конце 19-го или начале 20-го века.[9] Именно во время сентиментализации детей в конце 17 века они стали больше отождествляться с животными, такими как ягнята, что связано с христианской традицией олицетворять невинность, чистоту и божественность. Но поскольку девочки привязаны к куклам с намеком на предопределенное материнство, остается неприятный аспект сексуальности. Плюшевые мишки позволяют развивать игру и заботу, но стирают сексуальные элементы. Используемые животные обычно были детенышами животных, таких, как щенки и котята (например, Лофгрен, 1987), что связано с биологической предрасположенностью многих людей положительно реагировать на всеобщую “детскость”, особенно среди млекопитающих. Но не все куклы были разрешены; некоторые могут ввести ребенка в заблуждение относительно того, что является хорошим вкусом, а что нет. Один критик полагал, что популярность раскрашенных кукол (отражающая использование косметики взрослыми) не только “извращает” чувство красоты, но и намекнули, что концепции гендерных ролей также могут быть поставлены на карту (Карагеоргевич, 1899). Кукла, продававшаяся девочкам в возрасте от 6 до 9 лет в начале 1990-х годов, вызвала значительную критику. “Bundle Baby” от Matel поставляется в сумке, которую ребенок может пристегнуть к себе, и при нажатии кнопки фигурка “взбрыкнет”, и девочка почувствует, что носит ребенка. Один автор (“С отвращением”) написал “Энн Ландерс”, - говорит.
Если мы позволим жадным до денег производителям и торговцам добиваться своего, они разрушат невинность нашей молодежи. ... Добавьте это к тому, что они видят по телевизору в наши дни, и у вас получится идеальный план подросткового секса.
“Энн” полностью согласилась, сказав, что игрушка была “ужасно необычной". Я не могу себе представить, чтобы какая-нибудь разумная мать купила такую куклу для своей дочери-подростка.[10]
Плачущих или выглядящих уязвимыми детей часто изображали сжимающими плюшевых мишек. Плюшевый мишка мелькает на заднем плане, чтобы подчеркнуть молодость, невинность и жестокость юной жертвы изнасилования в старшей школе в фильме Клинта Иствуда "Внезапный удар", серия фильмов, в которой с начала 1970-х годов развивалась тема линчевателей. Плюшевые мишки играют важную, но незаметную роль в комиксе 1984 года о человеке-пауке и Пауэрпаке, как для мальчика, так и для девочки. Даже сами плюшевые мишки подвергались жестокому обращению, как в фильме "Уничтожители", вышедшем на экраны в разгар паники по поводу жестокого обращения (1985). Куклы чаще всего используются как знакомые с детства культурные атрибуты, и нарушение одного является нарушением другого. История Макмартина была начата и театрально оформлена Уэйном Сатцем и KABC-TV в Лос-Анджелесе; он рассказал о предполагаемом нанесении увечий кроликам голосом за кадром на экране, полном живых кроликов, интервью с обвиняемой Пегги Макмартин Баки транслировалось на экране с куклами, а в газетной рекламе телеканала был изображен плюшевый мишка Том с комментариями типа “Это больной, больная история."[11] У Эми Фишер была коллекция плюшевых мишек, и ее 36-летний любовник купил ей еще несколько (Фишер 1993: 19f, 45f); в одном из телевизионных фильмов, посвященных этому делу, были показаны мягкие игрушки в ее комнате. Популярное руководство по исцелению от сексуального насилия предполагало, что
Хороший способ распознать своего внутреннего ребенка и позаботиться о нем - купить для него мягкую игрушку или куклу... Сходите со своим внутренним ребенком в магазин и потратьте много времени на выбор подходящей мягкой игрушки или куклы для процесса его выздоровления. (Энгель 1989; 44f)
Плюшевые мишки также позволяют героям рекламировать и представлять “дух заботы и безусловной привязанности” (Лоуренс 1990: 152). Это было особенно полезным и популярным средством для властей во время истерии сексуального насилия; полиция использовала плюшевых мишек, чтобы утешать травмированных детей.[12] Медведи делают это во многих случаях, но они также служат для утверждения чистоты, доброй воли и авторитета помощников. Интересной разновидностью были куклы Cabbage Patch Kid, рекламировавшиеся в начале-середине 1980-х годов. В связи с фольклором о том, что младенцы невинно появляются на капустной грядке, куклы продавались таким образом, что покупатели “усыновляли” кукол, создавая не очень тонкую связь со спорами против абортов того периода. Продажи кукол начали снижаться, поскольку паника из-за сексуального насилия также начала приобретать дурную славу в конце 1980-х годов (Миллер, 1988). Некоторые авторы, хотя и полагали, что куклы играли на чувствах “репродуктивного отчуждения” или родительской вины среди женщин, тем не менее рассматривали маркетинг как “доброкачественную” эксплуатацию эмоций (Джейкоб, Роденхаузер и Маркерт, 1987), но более широкое рассмотрение места кукол в культурном времени не принималось во внимание.[13] Также считалось, что куклы имели более широкое культовое значение. В Огайо полиция Колумбуса и округа Франклин Департамент шерифа опубликовал информационный бюллетень под названием "Капустная грядка", который был разослан подозреваемым в растлении детей и фотографам. Полицейские выдавали себя за педофилов, рассказывали о своих желаниях и опыте — а также давали советы о том, как соблазнять детей, — и вызывали аналогичные реакции у своих жертв. После разоблачения операции полиции пришлось извиниться перед компанией, изготовившей куклу "Капустная грядка" (Цанг, 1985).
В частности, в текстах о пропавших детях детские артефакты были представлены в пустых или чуждых ландшафтах. Акцент делался на разрушении или расчленении; пустые качели, которые все еще качаются, брошенные или детские игрушки (Частин 1982; Куба 1984), отдельные предметы одежды, такие как обувь или перчатки (Вольман 1982), или опрокинутые трехколесные велосипеды (Чейз, 1990), сломанные куклы, поврежденные и залатанные плюшевые мишки (чаще всего используемые в редакционных карикатурах и иллюстрациях к статьям), а также испорченные фотографии. В издании романа Коэна в мягкой обложке (1991) был изображен плюшевый мишка и одинокая туфля в пустой комнате с открытым окном - удачное использование четырех изображений, связанных с названием романа "Исчезновение". Пейзажи, отражающие пустоту, стали способом выразить невыразимое и в то же время побуждать воображение буквально заполнять пространство своими собственными тревогами, как и тревогами зрителя, эмоциональность и представления о сексуальности принимают участие в конструировании проблемы.
Один образ, встречающийся реже, хотя и часто подразумеваемый выше, был своего рода антиобразом: сексуальный ребенок. В середине-конце 1970-х их было больше, но к 1980-м они были заменены, часто под угрозой ареста и судебного преследования, изображениями асексуальных детей. Дети в сексе могли бы существовать, если бы они были повторно представлены в качестве жертв (Руни, 1983). Очень рано в этот период было сделано некоторое допущение для показа изображений молодых проституток (как на обложке отчет Комиссии по расследованию штата Иллинойс), но они исчезли в конце 1980-х годов. Ближе к концу десятилетия сексуализированному ребенку было разрешено появиться вновь, но опять же только в рамках официальных повествований. Статья Херша в журнале 1988 года была посвящена беглецам и их связи с распространением СПИДа. На обложке была изображена девушка, заигрывающая перед кинотеатром, надпись гласила: “TRAMPS XXX PALACE." Тот факт, что большинство беглецов не прибегают к проституции ради своего существования, не помешала развлечениям функция в маркетинге - полупрофессиональное исследование. На фотографии для газетной статьи Хаттона (1989) была изображена молодая женщина, закрывающая лицо руками, якобы подавленная, пристыженная или оплакивающая свою участь жертвы; позируя в коротких шортах, она также демонстрировала значительную часть ног. Эти оба образа являются хорошими иллюстрациями того, как журналисты и другие спасатели детей могут эротизировать жертв.
Эффективное изображение злодея и жертвы - это когда фигуры расположены в резко контрастирующей перспективе с крутыми углами, представляющими размер различия, обычно с замаскированной фигурой взрослого или в тени. Это подчеркивает коварство и всеобщность угрозы, а также передаёт подтекст доминирования и подчинения с учетом различий в росте и весе (Миллар, 1984). Взгляд вверх использовался как символ невинности и добродетели (с сопутствующими последствиями подчинения и неполноценности) с конца 17 века; аналогичным образом, взгляд вниз несет в себе послание зла и господства (Банта 1987: 401; 702, примечание 12). В сексуальном плане взгляд вверх может означать тоску или пассивность желаний, в то время как взгляд вниз может указывать на похоть или агрессивное желание. Использование этих устройств - еще один способ, с помощью которого публицисты эротизируют проблемы и связанные с ними цифры. Резкая угловатость часто использовалась в западной культуре для обозначения сверхъестественного и опасного, как это сделал Лавкрафт в “ужасной геометрии” родного города Ктулху Р'Лайеха, или как это сделали декорации в кабинете доктора Калигари. Изображения врагов также традиционно были экстремальных размеров; меньшие, чтобы подчеркнуть незначительность или многочисленность врага (как в случае с крысами и насекомыми), или более крупные, обычно в виде гигантов, чтобы подчеркнуть их силу и значимость угрозы, наиболее эффективной, когда ее преодолевает меньший по размеру, но праведный герой.
Этот контраст размеров, на котором так настаивают в повествованиях о жестоком обращении, включает фундаментальные идеи непрерывности и композиции. Большие и маленькие в паре могут представлять естественные отношения и прогресс в возрасте и силе; правильные позы и объятия могут использоваться для обозначения невинного патернализма. Когда фигуры принимают сексуальные позы или передают сексуальное намерение, вся эстетика санкционированного отношения нарушается и порождает, подобно хорошему искусству или политическим заявлениям, интуитивные реакции и энергичные вокализации. Традиционные связи времени и социального смысла нарушаются, не столько разделяются, сколько сливаются (в буквальном смысле) и переформулируются. На обложке книги в мягкой обложке "Полоса зла" (Newman, 1979) изображена обычная поза, измененная подозрительным выражением лица пожилого мужчины с девушкой на коленях, его руки нарисованы в виде сжимающих когтей (одна лежит у нее на бедре), название книги непосредственно рядом с парой. Сюжет не имеет ничего общего с молодежно-взрослым сексом, но иллюстрация предполагает, что эти образы передают злобность персонажа. Даже для тех, кому нравятся сексуальные образы, обычная эстетика секса переделывается, фактически разрушается, когда демонстрируется секс между взрослыми и подростками, оказывая почти такой же эмоциональный и социальный эффект, как внезапное появление раннего модернистского искусства, такого как экспрессионизм, сюрреализм или кубизм, или радикальных текстов феминизма, атеизма, и анархизм.
Понятно, что также предлагаются жизнеспособные репрезентации героизма. Одним из них является прямое изображение фигур: озабоченных говорящих голов журналистов или знаменитости - образцы для подражания, такие как Мисс Америка {Предупреждение о защите детей 1985:2) представляющие ценности и роли, противопоставленные тем, которые определяют отношения между взрослыми и молодежью. Полицейские всегда популярны (обычно их показывают осматривающими трофеи, захваченные у врага; смотрите ниже) и хорошо контрастируют со снимками злодеев.[14] Рисунки мужчин или женщин, защищающих детей, популярны в качестве обложек, как например, изображение Палача на обложке "Спасите детей" (Мерц, 1986) или матери в Still Missing (Гутчон, 1981). Оба занимают “соответствующие” гендерные роли, при этом мужчина стреляет из пистолета, а женщина (замужняя) бросает восхищенные и заботливые взгляды на своего ребенка (иллюстрация на внутренней стороне обложки книги Гутчона) показывает, как женщина справляется с ситуацией, будучи беспомощной и истеричной.
Другой стороной героизма является демонстрация изъятых изображений обнаженных детей, сексуальных детей и секса между взрослыми и молодежью, которые часто сопровождают статьи и телевизионные шоу. Как жанр, они связаны со снимками изъятой контрабанды, такой как большое количество наркотиков, незаконных денег или оружия. Акцент делается не столько на артефакте, хотя в полной мере используется щекочущий взгляд, в котором спасители детей эротизируют свой предмет, сколько на факте владения им властями. Это фотографии трофеев, изображения охоты, различные идеи подсчета трупов. На них изображены богатство и мощь врага, с которыми сталкивается герой, определяются самим объемом (например, миллионами долларов от наркосетей) и/или скудостью снаряжения (например, демонстрацией оружия). Во-вторых, они демонстрируют силу героя самим фактом того, что они есть у него, а у других парней их нет. Они были взяты в бою и свидетельствуют о риске и усилиях героев; это представлено как демонстрация торжества добра над злом. Их не только можно взять, но и герои в них не нуждаются и не хотят, как в жанровых картинах о доходягах, разбивающих перегонные кубы и пивные бочки или сжигающих злые растения. Это клише, и на то есть веские причины. Борьба и фигуры являются мифическими, космическими по масштабу, и необходимы фундаментальные символы, чтобы связать их с традициями фольклора, мифа и жанра, есть — должно быть — одновременное определение аудитории и проблемы. Вторая причина использования клише кроется в ограниченном художественном и политическом воображении и интеллекте журналистов, художников-графиков, авторов и других лиц, которые эксплуатировали проблемы секса между молодежью и взрослыми.
Это не значит, что в театральных постановках против насилия отсутствовал смысл. Работа фотографа Фреда Хаузела и рекламной фирмы Metzdorf-Marschalk была ответственна за повышение рейтингов хьюстонского канала NBC, KPRC-TV. Одна из попыток заключалась в продвижении репортажа о похищенных детях, для которого фотограф использовал дочь арт-директора агентства (“он добился от подростка нескольких ужасающих поз”) и самого арт-директора (“у него чертовски красивые когти”). Результатом стала реклама “Кто-то протянул руку и забрал ее”, на которой была изображена затененная рука, тянущаяся к испуганной девочке. То кампания была начата, чтобы “опровергнуть обвинения в том, что ночные выпуски новостей [KPRC] являются маскарадом журналистики, тонко замаскированными попытками выдать насильственные преступления, сплетни о знаменитостях и истории, представляющие чисто человеческий интерес, за серьезные новости” (Маркус 1984). Директор новостной станции посчитал, что “нелицеприятная” фотография повысила их репутацию как “первоклассных репортажей о жестких новостях”. Однако к 1990 году аналогичная реклама, показанная для станции CBS, была высмеяна и осуждена как “отключающая настройку".’ (Стайлз, 1990). Арнольд Шапиро, продюсер широко раскрученной телевизионной программы, испугался Сайлента спросили, как ему удалось привлечь такое внимание к своему проекту; “Как вы привлекаете людей к экрану телевизора, когда речь идет о жестоком обращении с детьми? Во-первых, вы признаете, что тема достойна того, чтобы стать событием. ... Тогда мне пришла в голову идея одновременной трансляции” (Wynne 1992a). Объединение визуальных эффектов и текстов в “события” - вот что создает зрелище.
II
В своем анализе средневековой жизни Хейзинга утверждал, что “однажды приписав идее реальное существование, разум хочет видеть ее живой и может добиться этого только путем персонализируя это”. Как только это появляется в виде изображения, идея, стоящая за изображением, воспринимается как реальная и правдивая (1949: 186, 148). Персонификации соединяются с другими репрезентациями, которые, будучи связаны культурной логикой, образуют мифы, возводящие образы в область священного и придающие вопросам и ценностям, связанным с ними, респектабельность, авторитет и актуальность. И защита. Мифические предположения и образы, эссенциалистские по своей природе, вновь предстают перед публикой, но, несмотря на заявления об универсальности и вневременности, они могут быть, а могут и не быть разделяемые рынком. Что важнее, чем совместное использование, так это то, что образы и ценности получают послушание и принудительное применение, интенсивность которых способствует проявлению громкой поддержки, а также настойчивости в соответствующих уровнях отчуждения и молчания со стороны тех, кто не поверил бы или опроверг.
Образы - идеальные типы. Они имеют некоторую фактическую основу, но по своей природе простираются и стремятся к измерениям, выходящим далеко за рамки любых эмпирических обоснований. Изображения, однако, заявляются как реальные, и аудитория может признать это утверждение как законно не потому, что изображения на самом деле реальны, а потому, что претензии подтверждают собственные (пусть и расплывчатые) представления аудитории об этике и эстетике. Изображения создаются путем заимствования и применения наборов или элементов характеристик, используемых в других репрезентациях; “новые” изображения - это скорее переработка и перестановка традиционных культурных запасов. Более того, изображения не могут быть слишком новыми, иначе они потеряют свою долю рынка. Посредством процесса, в котором ассоциация воспринимается как идентичность, образы и их значения утверждаются как факт и событие. Эти образы обеспечивают смыслы, которые мотивируют и структурируют социальное действие, и они создают то, что может быть пространственно и временно ограниченными наборами подтекстов, некоторые из которых предсказуемы, некоторые нет. Учитывая стабильность наборов изображений и уверенность в их повторяющемся потреблении, что допускает вариативность, так это манипулирование историями внутри историй. Таким образом, в "истериях сексуального насилия", в то время как драмы якобы были сосредоточены на жертвах, выступления разрешались или поощрялись родителями жертв, героическими профессионалами и, конечно же, злодеями, все они тщательно прослушивались перед кастингом.
Это особенно верно в отношении культурной обработки сексуальных актов и мотивов в западной культуре. Одним из следствий веры в теорию влечения к сексуальности стала необходимость создавать и инвестировать в массивы символов и образов, предназначенных для ритуального (т.е. регулируемого, структурного) вызова и направления выбранных эмоций. Здесь делается акцент на крайности и разделении (считается, что это отражает неотъемлемую природу сексуальных переживаний и чувств — грязное против чистого, добро против зла), что является отражением западной религиозной и научной мании морального регулирования и обусловленно экономической одержимостью бухгалтерии, проявилось в виде сложных, иногда красноречивых классификационных схем.
Поскольку образы идеализированы, основаны на раздробленном и неполном субстрате и коренятся в защите одного набора желаний от других, они в конечном счете нестабильны. Чем более нестабильны образы, тем более громогласны представлена их защита. Эта потребность быстро и решительно настаивать автоматически приводит к непоследовательности повествования, и тратится значительная энергия на согласование внешнего вида кажущиеся противоречивыми фигурами в драме. Знаковое и тематическое повторение служит для уменьшения или отвлечения внимания потребителей от сложности или противоречия. Уменьшение сложности также достигается за счет настойчивого использования линейных причинно-следственных связей. Если делаются утверждения о прямом и непосредственном влиянии педофила на жертву, то также утверждается, что аналогичные способы разрешат ситуацию, такие как наказание за уклонение от наказания или казнь. Одним из соблазнов линейной настойчивости является ее обещание определенности, единообразия и стабильности. Когда сексуальный ребенок вырывается из вынужденного молчания и угрожает раскрыть хрупкость идеального персонажа-жертвы, ее объясняют просто как еще одну классификационную разновидность жертвы и реинтегрируют в созависимость злодея/жертвы/героя. Уайльд предполагает, что такое эстетическое и этическое единство является требованием модернизма (1981:32). Это правда, что такие объединяющие стратегии, проявляющиеся в виде реформаторских движений, кампаний очищения и моральной паники, приобретали все большее значение с начала 17 века и по настоящее время, времена, когда социальная, эмоциональная и культурная фрагментация воспринималась как непосредственная и масштабная угроза. Безусловно, большинство символических крестовых походов преследуют своей целью реинтеграцию социального и физического тела во что-то более единообразное, последовательное и послушное. Современная тактика, обычно используемая для достижения этой цели, - это манипулирование эмоциями. Наиболее эффективный способ добиться этого - во-первых, чтобы кампании претендовали на культурную респектабельность путем утверждения социального и морального превосходства.
Во-вторых, образы и сопутствующие им эмоции должны быть направлены через давний, узнаваемый (сознательно или бессознательно) репрезентативный жанр. Структурные связи и условности содержания в таких жанрах, как готика, мелодрама и сентиментальные тексты, традиционно использовались для мобилизации эмоций, поощрения фантастической работы и игр, а также для направления или сдерживания социальной активности. Жанр появляется в основном как артефакты художественной литературы, рекламы и журналистики, хотя наука как институт также активно участвует в создании шаблонных изображений для саморекламы. Очень мало имеет значения, что используемые изображения могут шокировать; на самом деле, предпочтительнее, чтобы они это делали. Резкие сцены и сценарии предназначены для того, чтобы вызвать реакцию, и с политической точки зрения именно эта реакция является толчком к стабилизации, чтобы “подтвердить восприятие, а не изменить его” (Хьюссен 1980). То, что может показаться изменением, может быть просто сокращением систем ценностей и символов, которые, как считается, недостаточно защищены и соблюдаются. По сути, драконовские законы о сексуальном насилии над детьми, принятые в 1980-х годах, укрепляют традиционные значения пола, возраста, гендерной принадлежности и авторитета перед лицом вызовов вместо того, чтобы представлять какой-либо прогресс в гуманизме. Законы и их реакционные изображения настаивают на том, что соответствующие культурные и биологические качества и характеристики являются фиксированными и действительными, особенно те, что касаются детства и сексуальности, которые рассматриваются как особые.
Усиливая и проясняя ценности, заложенные в их текстах, жанры намеренно усиливают интерактивный комплекс образ-эмоция-ценность. Изображения могут быть поверхностными, но они созданы для того, чтобы восприниматься как эмоции и идентифицироваться как личная ценность. Именно повышение качества репрезентации приводит к показу и театральности. Это позволяет достичь двух целей. Во-первых, пропорционально степени драматизма это требует принятия показа и эмоциональных реакций на него как реальности. Чтобы добиться этого, театральность должна обескураживать и отклонять критические запросы о структуре презентаций и причинах их проведения. Эта последняя идея старая, формально высказанная Эдмундом Берком в 1757 году, и была постоянной темой консервативной критики популярной культуры. Это видно в современных антипорнографических движениях, которые предполагают, что у зрительской аудитории нет иного выбора, кроме как откликнуться на жанр. Взрослые воспринимаются как масса едва сдерживаемого оружия, ожидающего только нажатия на спусковой крючок, а дети - как пустые губки, впитывающие все, с чем сталкиваются, поскольку они запрограммированы на автоматическое действие.[15]
Во-вторых, если предположить, что такие дискурсы проявляются с достаточной силой во времена культурной нестабильности и конфликтов, образы усиливаются не только по качеству, но и по количеству, то есть повторяются, чтобы подчеркнуть и донести свое послание. Одна и та же вызывающая эмоции статья о сексуальном насилии над детьми появлялась с небольшими изменениями почти во всех газетах, журналах и средствах массовой информации неоднократно в течение определенного периода времени в течение 1980-х годов. Повторение в значительной степени зависит от степени воспринимаемой нестабильности. Гендерные роли, которые нуждающимся в усилении, показателям продаж, которые нуждаются в увеличении, и политическому авторитету, который нуждается в укреплении, будут способствовать рекламные кампании, особенно те, которые побуждают рынок стремиться к большему количеству того же самого. Это особенно верно, когда используются сентиментальные призывы, будь то в художественной литературе, журналистике или рекламе, поскольку такие образы и их подтексты проецируются и воспринимаются как форма самоутверждения и продвижения. Образы становятся общепринятыми, предлагаемыми в качестве собственного определения реальности. Все отдельные изображения, используемые в этих ситуациях для этих целей обязательно становятся частью более широкого культурного феномена, зрелища. Образность имеет первостепенное значение по сравнению с сюжетом в любом из рассмотренных нами представлений, что является характеристикой самих жанровых средств (см. Prickett 1979: 78). В зрелищах изображения превалируют над идеями, а демонстрация и реакция — над пониманием.
Эта “предрасположенность” к зрелищу, по-видимому, является очень человеческой характеристикой: желанием (основанным на том, что представляется биологической и эволюционной необходимостью) стимулировать чувства и интеллект и поддерживать их стимулированными. Этот “вкус к благоговению и чуду” (Хантер 1990:33) может быть активирован контролируемым, регулируемым и ограниченным социальным контекстом и социальной структурой, в которой свободное время либо является подавляющим (например, для богатых или безработных), либо ограничено (например, для перегруженных работой). Всем народам, особенно молодежи, нравятся истории и визуальные эффекты, которые активизируют воображение и физические реакции организма. Даже те, которые вызывают страх и чувство вины, оказались одомашненными до такой степени, что такой ужас шоу можно безопасно потреблять и наслаждаться ими как развлечением. Культурные показы, обычно ритуализированные, встречаются во всех обществах. История Запада в значительной степени состоит из зрелищ, начиная с цирков и военных кампаний древнего мира и заканчивая укреплением религиозной власти более поздних времен, через показное погрязание в тревогах по поводу сексуальных отношений между взрослыми и молодежью с середины 1970-х годов.
Наиболее важным для нашего исследования здесь и, вероятно, самой большой традицией было увлечение “монстрами”. Монстры были представлены как реальные существа в древних вавилонских текстах, а также в классических культурах Греции и Рима. В 77 году н.э. Плиний начал официальную и авторитетную каталогизацию таких существ в своей "Естественной истории". Это было расширено в раннем Средневековье путем обширного перечисления и классификации монстров — подтвержденного свидетелями и жертвами — в отчетах о путешествиях, энциклопедиях, бестиариях и текстах библейской экзегезы. Первоначально произошло слияние чудовищных животных с человеческими монстрами (как чернокожие, тогда считалось в Африке), но к позднему средневековью термин “монстр” стал общепринятым, стали более конкретно относиться к неполноценным людям (цвет кожи считался дефектом). К 16 веку животные и человеческие монстры или фантастические существа были в целом дискредитированы, и больше внимания стало уделяться тому, что мы называем “уродами", в значительной степени продукту ранних медицинских и биологических исследований и желания обществ отчитываться за себя в светских терминах.
В Средние века идея о том, что монстры сигнализируют о божественном неудовольствии и грядущей катастрофе, стала более общепринятой и остались элементом популярной и профессиональной мысли. Возникнув в результате растущего постсредневекового светского интереса к фантастическому и причудливому, мотивы монстров и поиск “неестественного” были неотъемлемой частью западной популярной культуры в 16-м и 17-м веках. Тогда же возродился интерес к линейным и механическим причинам, (Park and Daston 1981; Фидлер 1978: 233f) как к определению науки. Шпак (1962:30) цитирует слова графа Шафтсбери, сказанные в 1710 году, еще до появления готического жанра позже в этом столетии, о том, что “Монстры и страны чудовищ никогда не были больше по запросу” восторженного населения. Однако, начиная с конца 16-го века, представление о монстрах все больше и больше становилось источником растущего числа образованных и профессиональных классов. Некоторые все еще воспринимают монстров, как указание на связь между естественным и сверхъестественным, в то время как большинство воспринимает их как указание на связь (обычно моральную) между естественным и искусственным. В начале 18-го века моральные и этические вопросы вновь были подняты на фоне большой социальной тревоги, и монстр стал отождествляться - особенно в человеческой форме — с великим злом, угрожающим личному и социальному разрушению.
18 век требовал всевозможных стимулов, особенно табуированных. Существовало стремление к “потрясающим произведениям природы”, главным образом в форме панорамных пейзажей, спецэффектов в искусстве и науке, а также постоянный интерес к неполноценным существам (Бриссенден 1974: 40, 75). В 18 веке спецэффекты стали массово производиться и были привязаны к этике потребления. С ростом капитализма и развитием рекламы стремление к сенсорномым стимулам были подхвачены более широкими и разнообразными слоями общества. В конце 18 века развитие технологий для зрелищных представлений и выставок с апокалиптической тематикой стало более популярным среди зрителей и могло быть организовано более эффективно; именно здесь мы начинаем воспринимать “катастрофы” как зрелища. Драма вращается вокруг образов человеческих жертв, как когда-то вели мирное существование, но теперь им угрожают и уничтожают могущественные внешние силы. В ранних образах эти силы были порождениями божественного неудовольствие, и страдающая жертва была каким-то образом виновата. Зрелища катастроф были метафорами для сурового испытания человека и пути к духовной реализации и обновлению. Во второй половине 19-го века это стало более ориентированным на то, что впоследствии стало зрелищами психологических катастроф, и образы отражали более светские значения. В центре внимания по-прежнему был индивид, причем внимание уделялось таким субъективным темам, как работа “воспаленных мозгов” (Prickett 1979: 31, 33), но социальные темы стали более значимыми, обозначая определенные подмножества внутри общества или даже для всего общества в целом самосознающий субъект теперь мог воспринимать себя как социальный элемент, и во всех религиозных и пострелигиозных образах темы утраты (целей, идентичностей, смыслов) и одинокой героической фигуры, плывущей по течению в море монстров, оставались постоянными. Также в это время впечатляющие образы Всемирного потопа приобрели популярность, перейдя от его более откровенного религиозного значения к тому смыслу, который мы наблюдаем до сих пор, когда невинных людей, “лишенных якоря”, захлестывают приливные волны моральной катастрофы (Ландоу, 1982).
Обширное и быстрое развитие иллюстрированных журналов и газет в начале 19-го века сопровождалось развитием технологий визуального воспроизведения с помощью сложной и популярной области устройств просмотра - от “волшебного фонаря” 17-го века до Eidopliusikon, Sciopticon, калейдоскопа и стереоскопа, в которых особое внимание уделялось панорамам, диорамам и косморамам (стенд 1981:5f). Суффикс “-рама” закрепился в языке и стал синонимом грандиозных зрелищ побед добра над злом, что весьма удобно для демонстрации колониальных проектов Запада. Надпись на плакате в вестибюле “Девушки—дьявол с Марса" - "Зрелище слишком странное, чтобы его представить! Разрушения слишком чудовищны, чтобы их избежать!” — легко применима к образам Сексуальное насилие-О-Рама 1980-х годов. Прослеживалась преемственность во всем спектре культурных представлений; тележурналист Джеральдо Ривера, один из лучших представителей института за десятилетие, анонсировал один из своих специальных выпусков с обещанием: “Вы увидите несколько ужасных сцен и встретитесь с какими-то ужасными людьми” (13 апреля 1988, “Убийство: прямой эфир из камеры смертников”).
Первая волна массово производимых коммерческих впечатлений начала вытеснять, даже заменять реальную жизнь. С самого начала этого процесса в 18 веке этот интерес к “экстравагантному” и “неестественному” вызывал как осуждение, так и поддержку (Спэкс 1962: 80, 125f). Реакция против постановочных драм, основанных на пуританском уравнении показа с непристойностью и язычеством, были широко распространены в Америке до середины 19-го века, хотя в 19-м веке осуждаемые показы переместились в другие, менее публичные места и стали все чаще упоминаться как “непристойность” и “порнография”. Банта (1987:709,примечание 16; 711, примечание 2) приводит ряд ссылок на общее возмущение значительным увеличением количества изображений и заменой их текстом в течение 19-го века, продолжая наблюдаемую сегодня тенденцию к тому, что в 1911 году называлось “изобразительным убожество”. Вордсворт в своем стихотворении “Иллюстрированные книги и газеты” осуждает рост визуальных эффектов как “движение назад” и “гнусное злоупотребление печатной продукцией!”[16] Эта тенденция сохранялась на протяжении всего столетия, что привело к резкой реакции против эксплицитности и растущему вниманию к “реалистичным” деталям. Мелвилл ворчал, что люди хотят “большей реальности, чем может показать сама реальная жизнь... природа раскрепощена, возбуждена, по сути преобразована” (1971: 158).
Здесь уместны два основных вида зрелища: парад и выставка. Парады - это торжества и инсценировки, обычно регулируемые ритуальными критериями, особенно этическими и эстетическими. Они являются церемониальными мероприятиями и в большинстве случаев подтверждают свои культурные основы, особенно те, которые связаны с социальными структурами и их подтверждением тем, что Райан рассматривает как “истории” в рамках парада (1989; см. Scott 1990). Она совершенно права, особенно если термин “парад” используется широко, как это делаю я, как нечто близкое к перформативной демонстрации. Парады имеют много общих характеристик с выставкой, но здесь я хочу подчеркнуть напористость идеи парада. Выставлять напоказ - значит демонстративно демонстрировать, упорядочивать предмет таким образом, чтобы выставляемое напоказ выставлялось для осмотра и суждения. Выставлять напоказ - значит манипулировать. На парадах присутствует интенсивное, часто самодовольное утверждение и празднование власти. Отчасти это утверждение власти происходит из-за самой демонстрации вещей, которые выставляются на парад, а отчасти из-за физической и социальной дистанции, которую устанавливает парад. Зрителям, как посторонним, предлагается принять участие, издавая возгласы благоговения, одобрения и преданности; тот факт, что рынок то, что люди собрались в первую очередь, чтобы посмотреть парад, является первым подтверждением власти организатора парада. Зритель относительно пассивен, его суждения ограничены. Парад - это движение, динамика, с официально определенными началом и концом. Отчасти сила присутствия проистекает из развлекательных целей парада, гедонизма и потакания своим желаниям, отсутствующих или сведенных к минимуму в более формальной идее выставок.[17] Экспонаты пытаются стабилизировать колебания истории, обосновать чуждые формы в структурах современного знания и смысла. Парады мобилизуют то, что выставлено, но в направлении, продиктованном властью и знаниями, основанными на экспонатах. Педофилы и другие еретики сначала демонстрируются на профессиональных выставках, а затем более широко распространяются среди общественности-аудитории, выставляясь напоказ журналистами в популярных средствах массовой информации.
Выставки предъявляют больше претензий на респектабельность и авторитет. Как институциональная форма, парады могут быть разрешенными поводами для изменения культурных ценностей, обычно эстетических и этических. Парады стимулируют воображение посредством демонстрации, иногда эксплицитно, обычно путем преувеличения, иногда путем преуменьшения. Но, несмотря на кажущиеся исключения, парады все равно должны представлять традиционные социальные отношения, особенно те, которые предполагают иерархию власти, и особенно когда эти отношения могут оспариваться или подвергаться сомнению (Дэвис, 1986; Райан 1989; Скотт 1990). В то время как парады приглашают общественность к эмоциональному и физическому участию, выставки вызывают больше уважения и восхищения. Они гораздо более статичны, что указывает на то, что демонстрируемое имеет более прочные корни в обществе официальном, менее изменчивая культура. Эти утверждения применимы не столько к тому, что выставляется, сколько к событию самой выставки. В экспозиции присутствует неявная отсылка к экспоненту, отсылка к силе и мастерству, которые в первую очередь могут обеспечить выставку. Будь то широкий ассортимент выставленных материалов или размер и мощь того, что выставлено, там, тем, кто выставил это на всеобщее обозрение, сделали это с позиции элитной экспертизы, лицензированного органа власти, силы воли и материального достатка. Дистанция обязательна, одобрение не требуется.[18]
История открытия и выставки динозавров дает несколько примеров. С конца 17-го по 18-й век было найдено несколько динозавров, но более целенаправленные раскопки и описания начали появляться в первом десятилетии 19-го века, стали более текстуализированными в 1820-х годах и, наконец, были выставлены на всеобщее обозрение в Англии и Соединенных Штатах примерно в середине века. Они проявились в историческом контексте конфликтов между быстро развивающимися институтами современной геологической и биологической науки, а также утверждение авторитета и власти различными религиозными институтами. Монстры действительно были на параде, но в дополнение к их развлекательной ценности они фигурировали как фигуры в интеллектуальных и политических дебатах того времени. Экспонаты становились аргументами и доказательствами, парады - временем для вынесения приговора. Другой сдвиг, происходивший в то время, был в готической литературе ужасов — смещение фокуса страха и террора с внешних угроз на внутренние. Растущее число спекуляций о бессознательном представляло его как обширную неизвестную область, обстановку которая приглашал увидеть монстров, воплощающих угрозы и тревоги неизведанных областей. Динозавры увеличили масштаб чудовищности, и они усилили социальный акцент на самоанализе, поощряя творческую проекцию искаженной природы во внутренние глубины человеческой психики (Punter 1980). Вопрос о законности существования динозавров затрагивал не только вопросы эволюции, которые могла бы учесть культура, ориентированная на “прогресс”, но и проблему вымирания, особенно таких грозных существ. Эти могущественные монстры угрожают человеческому существованию самим фактом того, что все они мертвы.
Параллельно с этим происходил расцвет американского “музейного дела”. Популярные пристрастия к причудливому и нездоровому, вытесненные из респектабельных выставочных залов и учреждений, нашли пристанище в “дешевых музеях”, которые появились в начале 19 века. Эти экспонаты позволяли людям безопасно ознакомиться с историями о том, что должно и чего не должно, о естественном и неестественном, на реальном примере кого-то или чего-то, что представляло последствия различных форм поведения и установок. Макнамара рассказывает об экспонатах, демонстрирующих течение венерических заболеваний в графических деталях с помощью “сладострастных женских анатомических моделей”, а на одной выставке было представлено “хрящеватое лицо ухмыляющегося и пускающего слюни мальчика-идиота и ужасная легенда: Потерявший Мужественность” (1974:223), имея в виду последствия мастурбации, которая в то время была объектом профессиональной одержимости и общественного беспокойства. “Дешевые музеи”, основанные на древних традициях выставления экзотических экспонатов, были популярны на протяжении всего 19 века, достигнув пика во второй половине периода, пока их не поглотили путешествущие цирки на рубеже веков (Гримстед, 1968; Фидлер, 1978; Богдан, 1988). Они просуществовали до первой половины 20-го века в виде неряшливых придорожных экспонатов, став идеальными декорациями для рассказов ужасов.
Также популярными, начиная с конца 18-го века, были картины либо с восковыми фигурами, либо с живыми людьми. Изображения создавались с помощью специально разработанных поз, предназначенных для передачи моральных идей, в которых “умы зрителей могли разыгрывать личные мелодрамы желания” (Банта 1987: 609). Предыдущее созерцание изображений поощрялось, потому что тема была открытой или направлялась религиозными авторитетами; изображения были социально значимыми в той мере, в какой эти значения явно разделялись зрителями. 19-й век радикально раскрепостил воображение, предлагая образы, которые иногда были конкретными, иногда достаточно расплывчатыми, чтобы допускать более широкие, внутренние и субъективно обоснованные разработки. Удовольствие от просмотра гротескного и ужасающего умерялось лекциями и другими презентациями, которые окружали шоу респектабельностью, во многом похожей на современное телевидение, документальные фильмы, новостные репортажи или выставки детской эротики создаются при одновременном участии экспертов.
Фрики всегда были довольно популярны среди зрителей и предпринимателей. Начиная с 16 века и в наши дни “зрелище странности” (как Бен Джонсон упоминал об этом, Малони, 1983) привлекал особое внимание зрителей и тех, кто хотел превратить любопытных зрителей в платежеспособных клиентов. В 17-м и 18-м веках обитатели приютов для душевнобольных часто выставлялись напоказ, и люди ходили смотреть на заключенных для развлечения как в Америке, так и за рубежом в Англии. Они платили за вход и часто пытались напоить заключенных, чтобы преувеличить их поведение. Выставка была оправдана религиозными соображениями, заявив, что уроды были даны Богом, чтобы указывать на моральных и аморальных персонажей поведением. Таким образом, эти “странности” служили не только власти экспонентов, но и подпитывали и поощряли чувство превосходства зрителей, предоставляя им обоснованную позицию для проявления своей жестокости. Это были уроки, которые следовало усвоить, и, как указывал Фуко, сама энтомология слово “монстр” указывало на то, что они были “существами или вещами, которые нужно показывать.”[19] В 19 веке продолжали расширять масштабы зрелища, показывая “все необычные, надуманные, извращенные вещи”.[20]
Есть еще один вид популярного зрелища, который имеет историческое значение. Для многих поколений в Европе маскарад был высокоразвитым институтом, который позволял не только наблюдать экзотические зрелища и поведение, но и позволял участвовать в них. Однако для этого человек не мог быть самим собой, и требовался выход за пределы самого себя в превращении в “Другого”. Маскарады были связаны с другими фестивалями инверсии, на которых обычные отношения и правила повседневной жизни в рамках разрешенных временных и физических пространств переворачивались с ног на голову. Здесь отвергнутые или недостижимые личности предстают в виде монстров и клоунов. Касл предполагает, что маскарады 18-го века были связаны с ростом определенных видов представлений и риторики, в частности (по словам критиков) с проявлением жестокости, возбуждения, моральной опасности, развращением морали и вкуса, сексуальной распущенностью, эротизмом, интригами и “существенной девальвацией единых представлений о себе. (1986:4) Эта камивалесская деятельность развилась до такой степени, что после 18 века гражданское общество должно было ее приручить, и превратилась в нечто большее. Упорядоченные показы и парады, которые подчеркивали элементы “экзотики, болезненности и смерти” (Касл 1986: 336; 1987), с гротескностью в качестве отрицательной стороны основная объединяющая тема. Важность этого видна в принятии официальной культурой бремени демонстрации и ограничении культурного в личности более унифицированной кажущейся сущностью. Другое, чудовищное существо, стало еще более обособленным из культуры оборонительного сдерживания и, следовательно, стало в большей степени объектом демонстрации и манипуляций со стороны официальных оценщиков. Изобретение в 19 веке половых разновидностей являются наследниками нитей всех этих процессов. Такие категории, как “гомосексуалист”, “педофил”, мастурбирующий ребенок, “порнография” и другие, представленные в музеях Краффт-Эбинга и его коллег-сексологов, представляют собой не продвижение науки к более глубоким открытиям, а исторически сложившиеся конструкции культурных тревог. Они уже более ста лет доказывают свою полезность в развлекательных и административных целях.
 Рисунок 6.1 Реклама в газете KABC-TV, 1984 год
Рисунок 6.1 Реклама в газете KABC-TV, 1984 год
7
ЗЛОДЕЙ КАК ЗРЕЛИЩЕ
I
Независимо от того, говорилось ли о “сексуальном преступнике” в более старых текстах (Sutherland 1950, Falk 1964, Gebhard 1965a, 1965b) или позже о “педофиле” (Plummer 1979), несколько наблюдателей выделили фрагменты популярных образов сексуальных злодеев и пришли к аналогичным выводам. Эти персонажи, включая жертв и героев, являются продуктами морального мышления. Такого рода мышление, по сути утопическое, является образным мышлением, спекуляцией, фантазированием не только о том, что должно быть, но и о том, что “есть". Как и большинство других форм политической или сексуальной мысли, она проявляется в иконах и драмах, рассказано с определенной точки зрения. Как часть этого, монстры создаются и выставляются напоказ таким образом, чтобы вызвать вопросы и противопоставления добра и зла, того, что истинно и ложно, того, что реально и искусственно, красоты и уродства, себя и другого. Монстры могут обозначать границы, но они также создаются, когда возникает неопределенность и споры о месте или даже необходимости границ. Внешняя и внутренняя форма монстра является прямым отражением искажений, которые, по мнению людей, происходят в их личной, социальной, культурной и физические жизни. Монстры влекут за собой искажение материальности и духовности: непочтительность, нечестие, аморальность и зло; неконтролируемая страсть и похоть; фанатизм, одержимость и заговорщическая подрывная деятельность; и извращение религиозных или светских целей.
Наиболее заметным качеством злодея, особенно сексуального злодея, является телесность; особенно очевидна огромность, абсолютная подавляющая величина ожирения. Если внешне он не является физически непропорциональным, то чудовищность внутри приобретает гигантские размеры. С этой широты начинается “Инаковость“, это и есть ”Другой", потому что это фундаментально, сущностно отличается. Чтобы добраться до сути того, что составляет разницу, много времени тратится на детализацию уродства путем представления изображений трансформированного тела. Это преподносится как уродство и отталкиваемость; гротеск используется для того, чтобы вызвать физическую реакцию отвращения и страха. Составленный из неуместных, несочетаемых и случайных элементов, появляется искаженный и неполноценный, но крайне опасный индивид. Его поведение, как и его внешность, не регулируется никакой логикой. Болезнь долгое время была отличной метафорой для обозначения трансформирующееся тело; болезни, разложение и смерть (особенно при повторном пробуждении) или представляют собой основные угрозы монстра. В 1980-х годах многое из этого было актуально в популярной, политической и профессиональной культурах. Кстати, о СПИДЕ, который неуклонно рос во второй половине десятилетия, Гольдштейн говорит, что переделка “Мухи” 1986 года является прямым отражением страха перед превращением тел в больных чудовищ, сопровождаемого "большими дозами сексуальной паранойи."[1]
Монстр олицетворяет угрозу власти и порядку. Монстр уходит там, где ему не следует, видит то, чего ему не следует, прикасается к тому, к чему ему не следует, думает то, чего ему не следует, берет то, что ему не принадлежит. Монстр - преступник, объявленный вне закона; как таковой, он становится врагом, официально обозначенным соответствующими властями и повторенным информационными индустриями (Gray 1970: 131-169; Adam 1978; Shupe 1987). Хуже того, неспортивным поведением он заставит других делать то же самое. Ироничное и противоречивое, его непослушание заставит или вдохновит на преданность и конформизм. Двойная угроза, монстр не только уничтожает других, он копирует самого себя. Чудовище непочтительно, богохульно, нечестиво. Он отрицает нецензурными мыслями и действиями все качества и цели священных изображений. Своими речами он проклинает тех, кому поклоняются, и насмехается над молящимися; своим прикосновением он накладывает разрушающее заклятие на божественное, которое, столкнувшись с чудовищем, внезапно становится менее всемогущим. Он безвкусен, не обращает внимания на каноны приличия и наслаждается непристойным. Монстр смеется над трагичным.
Монстр задуман как необычное, но занимательное зло. Развлечение происходит от представления двух разновидностей человеческой драмы, секса и насилия, смешанных с загадками и секретами, проецируемыми с помощью спецэффектов. Монстр — это похоть в движении, или, точнее, на марше. Творение одушевлено, потому что оно ненасытно, опьянено, одержимо и зависимо; оно неконтролируемо и, казалось бы, неудержимо. Он - несвязанное воображение. В сексуальном плане он заменяет прелюдию нападением, а его оргазмы зависят от смерти, явно и бесконечно описываемой его очарованными оппонентами. Он развращает невинных, насилует несогласных и уничтожает беззащитных. И он политик. Он фанатик, фундаменталист, подчиняющийся неслыханным или невыразимым законам. Он коварен, потому что он подрывной, и он подрывной, потому что он замаскирован. Его стремление к несправедливому преимуществу делает его внезапные появления поразительными, последствия обнаруживаются только после того, как он убегает — а он всегда убегает, потому что он трус.
Монстр - олицетворенное извращение. Он отклоняет и разрушает то, что является естественными, нормальными, предсказуемыми состояниями и процессами, ниспровергая зрителя - вера жертвы во внешние проявления и правила мира. Его презрение к социальным ценностям усугубляется его высокомерным утверждением о контр-идеологии, которая отрицает все прошлые достижения, нынешние усилия и устремления в будущее. Он невосприимчив к рациональным аргументам или здравому смыслу, и его нельзя убедить или скомпрометировать. Его можно только остановить. Поскольку монстр настолько чрезмерен, он по определению больше, чем нужно или желаемое, и в конечном счете является расходным материалом. Он позволяет ордену, посвященному принятию, изобилию и свободе, отрицать, исключать и уничтожать его.
Двумя взаимосвязанными определяющими характеристиками чудовищности являются идеи ненасытности и целеустремленной преданности исполнению желаний. Идея “сексуальная зависимость” была широко популярна и необходима профессионалам на ранних стадиях истерии. Хотя некоторые использовали эту идею в начале 1970-х, Патрика Карнса (1983) часто считают тем, кто первым эффективно продвинул идею на рынок.[2] Изображение соответствовало другим обвинениям в сексуальном энтузиазме, и профили “сексуального наркомана” были почти такими же, как и у педофила (большинство считало, что детский секс, жестокое обращение было следствием “сексуальной зависимости” Seligmann, 1987). Идея была полезна для колумнистов-консультантов, которые направляли необнаруженных и не признавшихся в своих преступлениях наркоманов за помощью, хотя “Энн Ландерс” (1988) мило исключила “молодоженов”. Левин и Тройден (1988) предложили хорошую критику идеи сексуального принуждения, рассматривая ее как “попытку репатологизировать формы эротического поведения, которые стали приемлемыми в 1960-х и 1970-х годах, но идея оставалась популярной и прибыльной.[3] Однако эта концепция существует уже довольно давно и используется тем же политическим целям, тем же идеям служившим в 1970-х и 1980-х годах. В середине 18 века Тиссо рассматривал мастурбаторов как людей, “пристрастившихся ко злу” (Иорданова 1987:74). Томас Мальтус, известный своими мрачными предсказаниями о перенаселении, полагал, что из-за недостатка разума “некоторые люди высочайших умственных способностей пристрастились не только к умеренному, но даже к неумеренному предаванию удовольствиям чувственной любви” (Мальтус 1926: 217f). Дуайт предупредил, что как для соблазнителя, так и для соблазняемой “Распущенный характер вскоре становится привычным”, и они “становятся зависимыми от этих поблажек.[4]
Оксфордский словарь английского языка отмечает, что элементы преданности и зависимости, которые имеют решающее значение для концепции зависимости, восходят, по крайней мере, к началу 16 века. Все, что, по-видимому, отвлекает внимание от разрешенных занятий и артефактов, может считаться как предметом, так и причиной патологической и фанатичной приверженности, то есть идеи одержимости сочетаются с идеями верности. Янг (1966:99) правильно заметил, что “страх зависимости недалеко ушел от страха идолопоклонства.”[5] Наиболее очевидно это проявилось в критике влияния массовой культуры на молодежь. Зависимость использовалась для объяснения широкого спектра удовольствий и забот, от религии до видеоигр (Booth 1991, Rosemond 1988). Психоаналитик Педерсон-Крэг полагал, что чтение детективов стало “привычным”, потому что приносило “удовлетворение” и приводило к “ненасытному спросу” на все новые и новые истории. Аналитику это казалось результатом жестокого обращения с детьми. Читатель хочет “пережить заново и овладеть травматическим инфантильным переживания, которые ему когда-то приходилось переносить пассивно. Став детективом, он безнаказанно удовлетворяет свое инфантильное любопытство, полностью устраняя беспомощную неадекватность и тревожное чувство вины, памятные с детства” (1949: 214).
В то время, когда Педерсон-Крэг проводил анализ, социальные критики были очень озабочены популярной культурой, и эти усилия привели к некоторым необычайно идиотским профессиональным излияниям. В конце 1940-х - середине 1950-х годов власти были обеспокоены влиянием криминальных комиксов и комиксов ужасов на детей, и зависимость была одним из ключевых слов того времени. Читатели криминальной литературы и особенно растущее поколение поклонников хорроров с гордостью называли себя наркоманами. Одна История EC Comics “Образцовый племянник” содержала отсылку к “фанатичному наркоману”, и один из них на самом деле мог бы стать членом клуба по карточкам (еще одна популярная фраза осуждения пятидесятых).[6] Монстр во всех отношениях больше, чем жизнь, реальность и нормальность. И это так, потому что его рост происходит за счет питания постоянно растущим числом жертв, всепожирающих, “всепоглощающих” (Доусон-Браун, 1985), каннибалистических образов монстров, восходящих к классическим временам, любимых образов для тех, кто испытывает глубокое чувство потери и угрозы, чувства обостряются индивидуально и в культурном плане с момента появления современного капитализма. Монстр в популярном и профессиональном воображении - это прогноз последствий, последствие уникального события. Для людей, пострадавших от этого, монстр является символом того, что природа подавляет и поглощает их, а история настигает и оставляет позади. Монстр ставит под сомнение внешний (“объективный”) и внутренний (“субъективный”) миры и смыслы, которые связывают их воедино. На карту поставлены стабильность и определенность знания и реальности в жизни личности и общества.
II
Важность идеи чрезмерности заключается не только в том, что была пересечена граница, но и в том, что граница была нарушена каким-то ужасающим угрожающим образом, таким образом, внутренняя часть, которая была защищена, становится уязвимой. Для использования доступны две пространственные и тактические метафоры: во-первых, внутренняя часть стала плотной, раздутой и может взорваться через отверстие, образовавшееся из-за ослабления сопротивления внутреннему давлению. Вот образ необходимости внешнего контроля и внутренней паранойи. Другой заключается в том, что Внешнее/Другой нарушает границы, вторгается и разрушает внутреннее, независимо от целостности внутреннего; здесь акцент делается на интернализованном контроле и ксенофобии. То и другое часто сочетается, порождающие сомнения и неуверенность, которые выливаются в вызванный страхом поиск секретов и вызванное ненавистью требование признаний. Чудовищность, основанная на образах телесной трансформации, отражает нестабильность и бесформенность. Эта фрагментация, следствие потери контроля, порядка и единой целостности, часто выражается в формулах безжалостности, таких как “1 из каждого...”, “каждые x секунд..”, и в повествованиях, в которых говорится, что “x может быть где угодно, кем угодно”. Невозможность установить местонахождение фантомного педофила делает акцент на выявлении, присвоении имени и стигматизации.
Относительно позднее дополнение к концепции гротеска несет в себе значение скрытых или многослойных истин, в которых внутреннее ядро существа является самым истинным, самым уродливым и самым неконтролируемым. Маскировка и противоядная тактика “разрушения мифов” занимают важнейшие позиции в панике, основанной на страхах вторжения и контроля инопланетных монстров с невероятно дурным вкусом. Ремейк 1982 года The Thing гораздо нагляднее показал опасность инопланетного вторжения, особенно потому, что в фильме подчеркивалось, как инопланетянин с восхитительной отвратительностью может трансформировать себя в любую форму, напоминающую существо, с которым он вступил в контакт. В основе паранойи лежит ощущение “ненормальности”, которое невидимо (и, следовательно, воображаемо) или редко бросается в глаза. Основополагающим для зрелищ ужасов является внешняя угроза или скрытая внутренняя угроза, которая либо ожидает внешнего толчка, либо просто является возрастающей, наращивающее давление, пока извержение не выпустит на волю орды отвратительных маньяков. Сказки ужасов достигают своего напряжения и испуга в смещении баланса между известным и неизвестным; они “преимущественно связаны со знанием как тема”, - говорит Кэрролл (1990:127). Акцент должен быть сделан на раскрытии, эмерджентности и откровении.
Паранойя основана на борьбе за власть, а ощущение вторжения и заговора отражает глубоко укоренившийся страх потерять контроль над собой и другими, и свою идентичность. Официальные шоу ужасов, где монстры выставлены напоказ, предназначены для того, чтобы разрешить потерю контроля способами, которые мало повлияют на фундаментальные структуры повседневной жизни. Соответственно, пропаганда ужасов, специально разработанная для того, чтобы вызвать страх, укрепляет устоявшиеся социальные формы и учреждения. Паранойя порождает недоверие, и стимулом является увеличение дистанции и разъединения (близким родственником паранойи является клаустрофобия). Она должна поощрять доверие к усиленной централизованной и объединенной власти и дисциплине. Паранойя не ограничивается неконтролируемым. Те, кто насаждает мораль, должны испытывать глубокое и всепроникающее недоверие к своим собственным подчиненным. Сомнения и доктрины о достоинстве составляют основные тексты параноидальной культуры, ересь и богохульство - основные темы судебного преследования. Истерия сексуального насилия над детьми равна антикоммунистическое безумие середины века проявляется в его повествованиях о соблазнении, заговорах и переодеваниях. Как логическое следствие такого менталитета, истерия была ответственна за легализацию и институционализацию более навязчивых актов стигматизации, оргий единения и рутинизацию сексуального наблюдения и содержания под стражей. Требования воздержания - это требования клятв верности, обусловленные страхом двуличия. Двуличие является частью мотива двойного “я” или "парных противоположностей", оно часто встречается в текстах из-за манихейской природы культурной основы, из чего это вытекает: раздвоение между чудовищем-педофилом (телом) и невинной жертвой (духом) является одним из проявлений этого, и темы “педофилы-могут-быть-одни-из-нас” или “что-если-я-педофил”, а также образы демоническая Лолита - это другое. Концепция также проявляется в изображениях различий в размерах и весе между взрослыми и подростками; аргумент о “разнице во власти” против секса между молодежью и взрослыми является разновидностью этой старой идеи.
Образы двойственности порождают структурный и повествовательный парадокс. Это было в некоторой степени признано в рассказах о жестоком обращении, например, в признании того, что страдающий невинный ребенок может быть сексуально напористым и наслаждаться эротическими удовольствиями, или демон-педофил может быть пассивным, нежным и заботливым. Но парадокс изменчив, идеологически нестабилен. Эта неуловимость парадоксального, поскольку оно основано на взаимосвязанных противоположностях, позволяет верующему избежать конфронтации с иронией, состоянием, которое потребовало бы большей неуверенности в себе, чем верующие могут выдержать эмоционально, интеллектуально, политически или эстетически. Парадокс допустим только в той мере, в какой он не требует от действующих лиц рассмотрения противоречие, загрязнение неопределенностью концепций, на которых основаны убеждения. Но нестыковки и противоречия в образе педофила, жертвы и героя не имеют никакого значения для их авторов просто потому, что эти изображения не являются тем, что мы назвали бы рациональными конструкциями. Последовательность, обычно поддающаяся проверке эмпирическим путем, не является целью. Цель состоит в том, чтобы интересным образом выразить стремления к определенным политическим и сексуальным ценностям; обнаружение и разрешение противоречия перекрывается импульсом эстетики. Кроме того, для сторонников жестокого обращения важно не то, как вы играете в игру, а то, выиграете вы или проиграете. Акцент на победе (в частности, на триумфе и подавлении) был первостепенным в 1980-х годах и выражался различными физическими спазмами и криками (чаще всего наблюдаемыми в спортивных и рекламных роликах), триумфом брошенного вызов тела и усомнившейся воли.
III
Раскрытие секретов для параноика требует признания, чтобы обосновать несомненность угрозы и необходимость действий. В основе этого лежит идея Невыразимого. Именно об этом нужно говорить, исповедоваться, обнародовать и поставить под контроль администраторов знаний, мышления и поведения, как тогда, когда Герман (1992) одержимо настаивал на том, чтобы невыразимое было сконструировано и излечено. Не случайно, что психоанализ возник во время и в месте крушения колониальных авантюр. Это было время ограничения границ и сопротивления им, время, когда внешний толчок был отклонен назад, чтобы усилить растущее чувство внутренней обвинительности. В 19 веке многим было непонятно, что распространение имперской власти будет отвергнуто и осмеяно. Субъекты многие из таких жестов, едва ли считавшиеся достойными, подвергали себя риску, поскольку им не на что было положиться, кроме собственных ресурсов, недостаточность которых доказана наукой и религией. Молчание как литературный прием приобрело большую популярность в 19 веке. Оно использовалось для обозначения внутренних состояний чувств, еще не выраженных словами, для создания и передачи ощущения тайны и обмана, а также как метафора тем, связанных с сексом и смертью. Оно выражало чувства и состояния беспомощности, отчуждения, изоляции и отрешенности от мира, неуверенности и тревожного ожидания (Кейн 1984). Ассоциация невыразимого с сексуальностью восходит к святому Августину, и популярным обозначением гомосексуальности в 19 веке была “Любовь, которая не осмеливалась произнести свое имя”. Гомосексуальность, по определению, была скрыта и распространена среди населения таким образом, что беспокойство отражало социальную паранойю, которую мы наблюдали в текстах, посвященных Самоуверенному мужчине, Соблазнителю, мастурбирующему ребенку и другим подрывным фигурам. Отраженный в очаровании ужасом тайн, переодеваний, олицетворений, “не сообщаемых” событиях и отношениях, заговорах и соблазнениях - уровни возбужденной риторики менялись в зависимости от степени неопределенности. Невыразимое - это, с одной стороны, признак разобщенности, а с другой - явный страх обнаружить единство, общие чувства и восприятия, которые могут существовать между личностью и другим человеком. Например, так одержимо вычищать “детский помпон” - значит отрицать и защищать себя от риска, на который человек также может отреагировать.[7]
Страх и неуверенность в форме, содержании и силе Невыразимого, отражаются в мании называть, магическом процессе, используемом для отражения силы неопределенного Другого, важном в развитии социальной, поведенческой и сексуальной науки. Перемещение невыразимого из частного и личностного в публичное и социальное посредством присвоения имен - это попытка проникнуть в Невыразимое и приручить его с помощью захваченных и проинструктированных голосов. Поскольку Невыразимое приходит во времена теологических, политических или научных споров, становится необходимым развеять сомнения и страхи официальных кругов в том, что невыразимое на самом деле может быть произнесено. Невыразимое обычно выражается на языках угрозы и разрушения, поэтому признания приобретают особое значение. Именно то, что говорится, вызывает большую озабоченность, поскольку говорящий на исповеди - это Другой и по-прежнему представляет угрозу официальным определениям. Крайне важно, чтобы эти концепции того, что есть Невыразимое должно быть проверено как “правильное”, то есть подтверждено представлением доказательств и признаниями заключенных. Срочность предъявления обвинения связана с настоятельная необходимость верить, а настоятельная необходимость верить связана с настоятельной необходимостью наказать. Вот что доставляет такое удовлетворение в обвинении кого-либо в том, что он педофил. На фоне сильно пошатнувшихся смыслов ощущается возбуждение, когда можно нацелиться на кого-то и назвать по имени; значения ярлыка глубоко вплетены в системы гарантированных истин и героизма. Переживая мир, который, кажется, истощает чью-то сущность и силу, навешивание ярлыка “педофил” дает тому, кто его навешивает, шанс произнести и применить силу универсальной истины определенным образом, это очищает мир от демонических влияний и стабилизирует личные и социальные потоки. Это одно из древнейших магических заклинаний.
Видеть что-то “невыразимым” - значит выражать чувство подавленности избытком и угрозы множественности. Присвоение имен пытается изолировать проблемы и успокоить бьющееся в конвульсиях личное и социальное тело. Но присвоение имен сопряжено с риском фактической множественности того, что человек хочет ограничить единичностью, и необходимо осуществлять дальнейший контроль. Один из способов - запретить дальнейшую разработку, либо самостоятельно, либо по другому - путем преднамеренной цензуры критических взглядов, а другой способ - отказаться от дальнейшей разработки, которая заключается в квалификации и санкционировании партикуляристских повествований, которые очень подробно говорят о невыразимом, но всегда с защищенных позиций, таких как академические и психиатрические предисловия, редакционные оговорки, призывы сообщать о злоупотреблениях в конце, из передач или романов и так далее. Однако на более глубоком уровне навязчивое присвоение имен обычно приводит к неправильной классификации и/или категоризации на неправильном уровне, так что фактические и фундаментальные процессы и ассоциации затемняются или скрываются; что касается последнего аспекта, то некоторые обнаружили, что энергичное присвоение имен дает желаемый эффект, отвлекая внимание от тех самых элементов, которые являются более фундаментальными для проблемы, адекватно маскируя их для достижения более широких политических целей. “Профили” являются одним из таких типов присвоения имен.
Многие монстры 19-го века выражали Невыразимое. Монстр из Франкенштейна, вампир и личности доктора Джекила - все это использовалось для экстериоризации и артикуляции растущего страха перед тем, что находится внутри нас самих, а также перед внешним миром, столь же пугающий призрак восстания народных масс, рост которого не имел никаких признаков спада с конца 18-го века. Сексуальные гротески века — гомосексуалист, проститутка и роковая женщина, садист и мазохист, фетишист и мастурбирующий ребенок — были подобными чудовищами, изобретенными для того, чтобы говорить о серьезных угрозах порядкам внутри и вне себя.[8] Секретность имеет долгую и разнообразную историю, многое зависит от культурного контекста в любой данный момент времени. Связь детей с секретами также были разнообразны: одни считали секреты, которыми владеют дети, доброкачественными, другие - патологическими. Незадолго до распространения истерии о сексуальном насилии практически на все аспекты популярной культуры Беннетт смог заметить: “Среди наиболее восхитительных чувств, разделяемых детьми, есть двойное наслаждение секретностью и конспирацией. Молчание и общая уверенность обостряют чувства” (1979:82). Его последнее замечание особенно важно для понимания кампаний против личных миров детства. Секреты - одни из немногих ресурсов власти для молодых людей, особенно в той мере, в какой они способствуют формированию автономной личности. Эта автономия, эта обособленность могут быть разрушительными для отношений власти и представлений о себе у взрослых. В культуре сексуального насилия предполагается, что секреты подрывны и должны быть раскрыты любой ценой. Откровение обязательно становится показухой, поскольку большая часть мотивации — это эротизм тайны, направленный на ее самое обычное развлечение, вуайеризм.
Популярные жанры, начиная с начала 17-го века, постоянно исследовали идеи о том, что под респектабельными фасадами людей и мест скрыты коварные тайны. Формы этого восходят к римской литературе и разоблачениям Ювеналия и других, которые указывали на грязную частную жизнь общественных деятелей. Тема по-прежнему пользуется популярностью и профессиональным признанием и широко использовалась в антипедофильской полемике. Другие основные предположения заключаются в том, что то, что воспринимается на индивидуальной основе, непосредственно отражает универсальную реальность, и что секс на уровне частного лица представляет общественные социальные трудности. Это позволяет осуществлять строительство и использование журналистами и профессионалами текстов, в которых используются как маргинальные примеры, так и овеществленные категории для замены обычного и, как правило, совершенно иного поведения; эти сенсационные и экстремальные примеры злоупотреблений представлены как обычные случаи. Репрезентативная стратегия - это риторика, которую Полсон (1967: 219ff) называет “мелодраматической дикцией”. Примеры, уже искаженные личными и культурными предубеждениями, получают дальнейшее развитие с помощью этой провокационной техники. Современное разоблачение основано на либеральной вере 18-го века в то, что всеобщее наблюдение по своей сути справедливо и может иметь только положительные результаты (Фуко 1980: 161f). Вера предполагала образованное, самосознательное, самокритичное общество и институциональные системы, предоставляющие незаинтересованные отчеты всем и каждому.
Ричетти правильно замечает, что эти хроники скандалов (как их называли в середине XVII века) были отражением основных социальных и сексуальных антагонизмов. Споры о ценностях и социальном месте продолжают беспокоить общество, а конфликты по поводу пола, сексуальной ориентации и сексуальной репрезентации находят выражение, как это было 250 лет назад, в центральных фигурах беспомощной и невинной женщины, уничтоженной мужской злокачественностью, или, реже, “невинного юноши мужского пола, соблазненного стареющими и похотливыми куртизанками” (1969:124). Эти темы были постоянными в жанрах готики, мелодрамы, журналистики,[9] и других, основополагающих для американского воображения. Примером может служить романный рассказ Хейден о якобы истинных поисках тайной причины асоциального поведения ребенка, в котором она часто сравнивала свою историю с фильмами ужасов.[10] Одним из самых основных способов раскрыть секреты и подтвердить их существование (в рамках соответствующих эстетических критериев) является исповедь. К этому было два подхода: один акцентировал внимание на признаниях жертв, другой - на признаниях злодеев. Несмотря на различия в некоторых мотивах и структурных отношениях, они обязательно имеют много общих характеристик. Эти две взаимодополняющие драмы находят широкое применение во времена конфликтов из-за власти, особенно споров о том, что представляет собой действительное и подлежащее применению знание.
Исповеди - это драмы, потому что они обычно ритуализированы, то есть формализованы по процедуре и содержанию, связаны с институциональными и внутриличностными структурами и предлагаются как в качестве обучения, так и в качестве развлечения. Ритуалы, особенно такого рода, по определению должны выполняться. Иногда публично, иногда наедине, но, поскольку предполагается, что все должны быть знакомы с процедурами и целями, “неприкосновенность частной жизни” — это то, что разделяется культурой. Хотя предписание заключается в “добровольном” исполнении, во времена перемен и борьбы исповеди становятся более частыми из-за охоты и допроса. Охота на тех, кто должен был бы признаться, но не признается, закладывает основу силы и авторитета, осуществляемых на протяжении всего остального ритуала исповеди; допросы позволяют показать конкретных людей как культурные типы и конкретное применение доминирования (Hariman 1990). Пытаясь связать истерию по поводу жестокого обращения с американскими процессами над ведьмами, Гарднер заметил: “Парадоксально, но тех, кто признался...не судили и не казнили”.(1991:129).
Вряд ли это вообще парадоксально, когда функция исповеди заключается в понимании. Тех, кто признается, часто оправдывают и используют именно потому, что они признаются. Именно тех, кто сопротивляется, необходимо заставить замолчать и устранить. Джим Раби, бывший следователь по сексуальным преступлениям и шериф в отставке, отметил, что если подозреваемый признавался, его выпускали из тюрьмы, поскольку “находиться на свободе безопасно”. Однако, если подозреваемый отказывался сотрудничать, он считался “отрицающим” и направлялся на психиатрическую экспертизу и, скорее всего, был бы отправлен в тюрьму (Wright 1994:50). Так же и в случае с Амираултами, которых держали в тюрьме именно потому, что они не хотели признаваться, отказ подтвердить легитимность государства.[11] Демонстрация - важная особенность охоты. Со времен пуритан исповедь была тактикой поиска и излечения от “порочности”, которая противоречила духовной чистоте американской культуры. Признавшиеся (те, кто сознался) выставляются в качестве трофеев и пленных, взятых на войне, часто в качестве украшений и аттракционов на правительственных слушаниях. Будучи “Генеральным прокурором” по борьбе с педофилией в 1980-х годах, сенатор Арлен Спектор (республиканец от Пенсильвании) допросил женщину, представленную для показа, которая была осуждена за занятия сексом с 13-15-летними мальчиками. Спектор допытывался о деталях его методов и отклонял попытки свидетеля указать на эмоциональные и социальные аспекты отношений, настаивая на том, что мотивацией свидетеля была исключительно сексуальная эксплуатация. Он постоянно прерывал свидетеля, чтобы изводить его, а Спектор постоянно подчеркивал законность своих действий.[12] На другом слушании наказание “Уильяма Доу” и страх перед ним в качестве сдерживающего фактора были представлены для его признания в качестве дополнения к показаниям доктора Фреда Берлина. Частью цели “Доу” было служить мишенью для председателя Комитета, демонстрация прокурорских способностей и потенции.[13]
Выдающимся примером сконструированной демонстрации является постановка Эммермана (1985b). На фотографии к ее статье изображен “признавшийся в содеянном" педофил в окружении карточек с описаниями его встреч. Особый интерес представляет расположение книги "Сексуальная зависимость" (Carnes 1983) в центре. Нигде в тексте нет ссылок на книгу; она существует исключительно как маркер предмета, визуальное определение, сопровождающее книгу, обвинительный нарратив полемики Эммермана. Книга служит не только важным связующим звеном между признанием и обвинительным заключением, но и добавляет авторитета и легитимности обвинению, помещенному туда создателями сцены. В немалой степени это указывает на героизм тех, кто захватил этого человека, и на их мужество находиться в такой непосредственной близости от такого чудовищного зла. Другой пример - "Почему они это сделали" (О'Брайен, 1986), сборник с замечательным названием "исповеди под руководством, замаскированные под интервью". О'Брайен откровененно заявляя о своих целях: “помочь общественности лучше понять, почему некоторые взрослые совершают сексуальное насилие над детьми”, и попросить тех, кто находится в тюрьме, “обосновать свои действия". Кажется [sic] не менее важным обратиться к ним за советом о том, как избежать сексуального насилия и жестокого обращения в будущем.[14] Она была более конкретна в отношении своих намерений и предположений, когда перечисляла некоторые из “основных вопросов” своего проекта:
Существует ли определенный тип детей, которые подвергаются большему риску растления, чем другие дети? Почему некоторые взрослые нарушают естественную любовь, привязанность и доверие, в которых нуждаются все дети, чтобы расти и развиваться позитивно? Почему некоторые люди сознательно сбивают с толку детей и причиняют им вред преждевременной сексуальной стимуляцией? Почему некоторые люди сочетают плохой контроль над импульсами, отсутствие социальной сознательности и систему низких ценностей с гневом и местью, чтобы оправдать свои действия по сексуальному растлению детей?[15]
После того, как христианская церковь стала привязана к управлению государством, в ее практике исповеди было два акцента. Одна, более средневековая традиция, подчеркивала исповедь как средство разрешения социальных трудностей, основанное на общности отношений при превосходстве Церкви. Вторая приняла более личное руководство, пытаясь примирить исповедующегося грешника с божествами. Оба подхода использовались в качестве модели светского управления к началу 19 века. Хотя существуют некоторые споры о важности секса в Инициации реформации, ускорившиеся с 18-го века, придавали особое значение религиозной и светской конфессии как основе для мониторинга и регулирования сексуальных мыслей и поведения индивида. Развитие отдельных Католических школ в конце 1800-х до 1910 года и энциклика Pope Pius X, увеличение возраста первой исповеди до 6-7 лет помогло подчеркнуть важность сексуальной регуляции с помощью исповеди. Развитие психоанализа и психиатрии в это время, также направило тревогу на сексуальность детей и потребовало усиления надзора и давления с целью признания. С этим новым требованием к интеллекту стало больше внимания уделяться вуайеризму. Акт наблюдения, особенно за тем, что вызывает беспокойство и/или возбуждение, как проявление власти, в настоящее время является обычной практикой в журналистике, социальных науках и науке о поведении, а также в популярной культуре. Сейдж полагал, что “так называемые прямые отчеты о человеческом опыте...являются результатами консенсуса относительно репрезентации...” (1988: 132). Однако в разной степени существуют разрешенные и неавторизованные способы представления таких отчетов. Общепринятые и знакомые способы, часто институционализированные, обычно называются жанрами, и действительно существуют стабильные типы признаний и свидетельских показаний. Исповедь, разработанная в 17-м и 18-м веках как часть романа, позволила авторам включить в него более широкий и подробный материал личного характера чем было раньше. Более светское общество поощряло внутренние экзамены, как религиозные культуры, но с других точек зрения и предположений. Дневниковое письмо, в частности, поощряло идеи “самости, индивидуальности, субъективности, пристойности и способа вербализации личного и невысказанного” (Хантер 1990: 303). Акцент делался на личном, часто интимном опыте, чувствах и ценностях с учетом социального контекста, который продолжает расти и расширяться, хотя существует значительное давление, направленное на ограничение и преуменьшение таких перспектив.
Как для злодея, так и для жертвы в "исповеди" используются гомилетические темы: ужасающие ситуации и события, которые являются жестокими, несправедливыми или пронзительными, а также проблемы личностного и культурного управления (Stahl 1989:28). Акцент делается на личном и субъективном. В рамках этого индивидуальные ошибки и недочеты личности выявляются с точки зрения недугов, изъянов и провинностей, затем следует признание в чрезмерностях, чаще всего в терминах нестабильности и неконтролируемости. Во-вторых, есть сообщения о внешнем воздействии на ущербное, нестабильное или уязвимая личность, например, когда признается, что сексуальные материалы являются “спусковым крючком” для чьего-либо поведения.[16]
Для ритуальных и развлекательных функций необходим эмоциональный тон. Часть самого определения исповеди включает в себя ожидание того, что, поскольку будут раскрыты фундаментальные аспекты личности, для подтверждения этого будет продемонстрирован высокий уровень эмоций. Давление на злодеев и жертв с целью проявления эмоций в их выступлениях регулируется культурными критериями, которые регулируют такие проявления (Caldwell 1983: 159), в основном посредством прямого поощрения со стороны развлекательных или в исповедях часто звучит напряженный, изменчивый и настойчивый голос. Эти качества свидетельствуют об имманентной угрозе, которую представляет индустрия психического здоровья, исповедующийся, чувство вины, которое призвано донести признание, и спасение, на которое надеется исповедующийся. Частью этого является преувеличение, осуществляемое путем раздувания языка и повторения. Далее, существует тенденция проводить взаимоисключающие различия между добром и злом, представление, которое, хотя и претендует на рассмотрение альтернатив и различий, отказывается от сложности ради удобства изложения, простые единичные причины и суровые решения. Одна из главных причин, по которой исповеди так популярны, помимо их регулирующих функций, заключается в том, что зачастую практически отсутствует цензура содержания. Барьеры между исповедующимся и аудиторией устраняются, хотя только в том направлении, в котором аудитории предоставляется доступ к исповедующемуся субъекту. Признания по определению требуют представления материалов, на которые наложено табу, и хотя на поверхностном уровне акцент делается на секретности, и (в зависимости от требований административная постановка) с точки зрения конспирации, интерес заключается в содействии разоблачению. Каким бы шокирующим ни был предмет, каким бы “невыразимым” ни было представление, все равно должно содержать достаточно знакомых элементов, чтобы быть приемлемыми для целевой аудитории. Они могут быть откровенными и наглядными, но не слишком оскорбительными, и рассказчик не должен получать слишком большого удовольствия от рассказывания историй. Исповеди содержат истории внутри историй; внутренние истории должны быть рассказаны таким образом, чтобы “приручить” их для служения общей роли и цели рассказчика, а также для цели надсмотрщика рассказчика. Прямота, утверждение явных деталей на службе героизму и праведности помогает отделить хорошее от плохого; Хантер (1990) называет это “откровенностью”. О'Брайен предупредила читателя, что ее разоблачения включают “болезненные ситуации”, “эксплицитный язык” и что “сексуальные подробности графичны” (1986: ixf); Стратфорд соблазнила читателя, сказав: “Я должна предупредить вас — эту книгу нелегко читать. Её страницы полны боли, страданий, жестокого обращения и, да, даже ужасов самого ада!” (стр.l5).
Исповеди призваны оказывать терапевтическое воздействие на отдельных людей и общество посредством восстановления личного и социального порядка перед лицом противоречивых реальностей. Мало или вообще не имеет значения, является ли исповедуемое правдой или ложью, важно само признание, говорит Герман (1992: 1, 209f, passim). В то время как продавцы обычно говорят о терапии в терминах “здоровья” или “счастья”, терапия - это, точнее, принятие и укрепление власти. После того, как исповедующийся был схвачен или сдался, ритуал требует, чтобы к нему с мольбой подошел священник. Исповедующийся должен быть таким, чтобы была показана вина и предложено раскаяние. Для каждого исповедующегося должен быть духовник. Для злодеев тактика повторения подчеркивает их целеустремленность и неспособность контролировать себя, а также служит признаком раскаяния и подобострастия. Повторения часто принимают форму мольбы о пощаде и настойчивости в искренности исповедующегося.
Интересным аспектом является текстовое оформление признания голосом более авторитетного оратора и судьи. Признания могут быть отредактированы экспертом, надзирателем, а также сопровождаться вступительными материалами от должностного лица более высокого статуса, подтверждающими важность, законность, необходимость, срочность и точность выступлений. “Предисловие” Тримбла к "Зеленым фруктам“ Дюрстеда (1974) менее осуждающе, чем было бы, если бы оно было написано десятью годами позже, но он по-прежнему продвигает книгу как ”по-настоящему профилактическую историю болезни для серьезного непрофессионального читателя" (1974: xxi) и позиционирует себя как профессионального переводчика. Рэйфилд добавляет “Постфактум” к признаниям Виктора Икс, в которых он помещает, документирует культурно и психологически.[17] В одном из эпизодов репортажей-расследований был показан признающийся педофил, показанный для проверки утверждений о сексе между взрослыми и молодежью, на которых журналисты и профессионалы настаивали как на истинных. Замечания мужчины постоянно интерпретировались и исправлялись ведущим и двумя другими журналистами которые были представлены в качестве экспертов.[18]
Элис Ваксс (1993) рассказала историю о молодежном лидере, который занимался сексом с несколькими мальчиками среднего и позднего возраста. Его признание включало рассказ о предполагаемом собственном сексуальном насилии, когда он был ребенком, но Ваксс рассматривал это только как “оправдание чушьи собачий”. Приговоренный к терапии мужчина предложил отправить его в турне с лекциями, чтобы “просветить” о педофилии. Такая форма признания была совершенно неприемлема для Ваксс; она хотела, чтобы мужчина отбыл длительный срок. Она чувствовала, что передвижное лекционное шоу не будет достаточно наказуемым и будет воспринято как “национальное приглашание педофилов приехать в округ Куинс”, опасение почти такое же, как мрачные предсказания о городах, рассматривающих возможность принятия законов о недискриминации или браке для геев и лесбиянок. Священнослужители, которым адресована исповедь, действуют так, чтобы принять и подтвердить исповедь эстетически и онтологически. В соответствии со священническим различием между истиной и ложью исповедуемый превращается в свидетеля, немного более высокого и респектабельного, но все еще подчиненного статуса. Затем администратор переключается между ролями судьи и спасителя. Материал остается духовенству для доработки или использования в рекламных целях. Выявление властями скрытых смыслов и событий является основой для всех конфессий. Работа Тиссо 18 века о детской мастурбации двигалась в том же направлении, что и его использование медицины для постулирования существования злых тайн, которые должны быть раскрыты на исповеди. Тиссо, подобно развивавшейся в то время готике, считал свой собственный голос наиболее авторитетным для того, чтобы говорить о Невыразимом, предполагая, что существует широко распространенная Тайна, Молчание и Стыд. Независимо от того, получает ли человек похвалу или наказание, исповедь становится очищением, в ходе которого удаляется и очищается загрязнение, совершается правосудие (по-разному определяемое), а роли и отношения корректируются. Культура позволяет кратковременную триумфальную эйфорию, сияние посторгазматического самодовольства.
Поскольку признания являются слабительными, они также восстанавливают. Аккаунты используются для восстановления консенсуса, который больше соответствует политическим амбициям спонсоров. Сискин (1988:194) отмечает, что дискурс о зависимости - это “рассказ о необходимости излечения”. Зависимость является важной частью лексикона современных конфессий и основным оправданием для задержания и перевоспитания. Это было частью самопровозглашенного статуса “разрушителя мифов” в истерии сексуального насилия. Какими бы занимательными ни были исповеди, Хантер назвал бы их “дидактическими” текстами, которые явно или неявно выдвигают различные “долженствования” (1990: 229ff). Это достигается путем переосмысления личного и социального опыта и переосмысления личного и социального восприятия. Это делается в основном с помощью памяти. Сначала вспоминаются события и восприятия, а прошлое и настоящее противопоставляются. Посредством принятия и отвержения воспоминаний в соответствии с критериями, установленными надзирателем, и статусом, к которому стремится вспоминающий, действия и влияния преобразуются в линейную причинно-следственную цепочку, поскольку задача состоит в том, чтобы (заново) обнаружить истоки. По мере того, как память переупорядочивается или изобретается, личность реконструируется и приводится в соответствие с доминирующей онтологией. Личность становится более последовательным и менее вызывающим беспокойство. Тэмблинг (1990:2) справедливо говорит, что эссенциалистский взгляд на себя поощряется конфессиями. Основной частью этого является представление о себе как об особом, даже в контексте различных социальных сил, которые, как утверждается, воздействуют на него. “Восстановленные воспоминания” в их линейном выражении стабилизируют прошлое и ограничивают будущее; воспоминания строятся вокруг желаемого (“выжившего”) и определенный статус (“жертвы”).
Далее идет позиционирование себя с точки зрения социальной дистанции. Рассказывается об одиночестве, отчуждении и явной девиантности. Подчеркивается одиночество, особенно для грешащей личности, и усиливается индивидуализм. Здесь, в предварительно сохраненном состоянии, личности все еще является Другим. По мере продолжения процесса личности отделяется от Другого, но оно все еще изолировано и еще не является единой личностью. Становится таким (одна из целей исповедального процесса), что нужно руководство и авторизация администратора. Точно так же, как человек был превращен в злодея с помощью “триггеров” или “злоупотреблений”, он точно так же механически или магически преобразуется заново, будучи “спасенным” или “вылеченным”. Педофил, выставленный Эммерманом на всеобщее обозрение (1985b), сказал, что хочет признаться, хочет, чтобы его поймали. Свидетель, представленный на слушаниях в Сенате США, сказал, что он “благодарен за мой собственный арест.”[19] Здесь, как отмечает Тэмблинг (1990:90), признания тесно связаны с клятвами и признаниями в любви, заявлениями о верности и осуждениями. Проведя четыре года изучая официальную литературу, один человек сказал: “Я все еще не могу ответить почему, но я чувствую себя лучше от этого”. Его текст, некритичное резюме и пропаганда точки зрения, выступающей о жестоком обращении, скорее является признанием и подтверждением официальной точки зрения, чем исследованием. Автор, “осужденный растлитель”, признался: “Зачем это исследование? Я хочу искупить свою вину в сердцах моих жертв” (Хантер 1991: 3, 5). Признание должно быть извинением, выражением раскаяния и предложением компенсации, сделанным в ситуации, которая отрицает неприкосновенность частной жизни и уважение к признавшемуся.
Современные признания могут быть представлены таким образом, чтобы либо реинтегрировать преступницу, либо сохранить ее обособленность. Либо жертва, либо злодей с помощью терапевтического признания могут быть возвращены в лоно общества как более предсказуемые и патриотичные члены, либо, используя признание в качестве описания и подтверждения, они могут быть разделены и содержаться раздельно. Мы видели один пример публичного признания, предусмотренного постановлением суда, когда заключенный должен был признаться в своем статусе, вынести предупреждение и призвать других сдаться. В конце 1980-х годов предпринимались все более активные усилия в этом направлении, цель которых состояла в том, чтобы создавать “сообщения в средствах массовой информации”, направленные на непойманых педофилов. В одном исследовании специалисты попросили 175 клиентов лечебной программы в Сиэтле, штат Вашингтон, разработать послания для тех, кто все еще находится на свободе.
У меня есть проблема, которая разрушает жизни людей, а также мою собственную: я растлитель малолетних. Мне нужна была помощь, но я не мог попросить. ... Доступны программы, которые изменят вашу жизнь. Но не без жертв. Я сексуальный преступник. Меня обнаружили два года назад. ... Я надеюсь вылечился и научился контролировать свою проблему. Это нелегко. Я бы хотел, чтобы я никогда не начинал. Я знал, что в то время то, что я делал, было неправильным и мне следовало остановиться.... Обратиться за помощью и остановиться. (Смит и Конте 1986:3)
Признание злодея в сексуальном споре между молодежью и взрослыми является примером продолжающейся попытки развить американскую культуру стыда. Стимс считает, что она менее строгая, чем ее пуританский предок (1989: 248), с меньшим количеством коллективного принуждения, более интернализованными регуляторами, основанными на смущении, и частыми “заверениями в привязанности”. В истерии жестокого обращения все было наоборот. Развитие культуры стыда в 1980-х годах еще больше усилило ее важнейший компонент - публичные и частные ритуалы унижения. Стыд в значительной степени зависит не только от культурно определенных эмоций, в частности от страха, вины, отвращения и эротизма, но и от того, как выглядит официально заклейменный преступник. Демонстрация - это пересечение внешних эмоций, направленных внутрь субъекта, и требования, чтобы внутренние эмоции объекта были направлены вовне. Демонстрация исповеди абсолютно необходима для пристыжения, особенно в таких аспектах внутреннего мира субъекта, имеющего отношение к я-концепции (Линд, 1958). Именно здесь государство реконструирует изолированного индивида и восстанавливает свое господство и авторитет. Не случайно конфронтационные шоу, подобные тем, что показывает Опра Уинфри, Джерри Спрингер, Фил Донахью и другие приобрели такую широкую популярность в 1980-х годах. Они зависели от выставок, призванных шокировать. Они предлагали щекотку и вуайеризм, как и любое хорошее развлечение, но, что более важно, будучи санкционированными, они предлагали зрителям возможности проявить (а не просто выразить) моральное возмущение и насилие.[20] Поступая таким образом, аудитория возвышает себя над изображаемыми другими, необходимый ритуал, когда самооценка шатка, социальная неопределенность нуждается в успокоении и когда злобе нужен выход.
Печатные и вещательные СМИ представляли обидчиков скучающим, охваченным тревогой или виновными. С помощью различных театральных приемов популярные СМИ пытаются обеспечить, чтобы их рынки должным образом воспринимали образы. Синдалл (1990:33) отмечает, что “существует тенденция воспринимать новости как личный опыт”, тенденция, культивируемая журналистикой, поскольку она пытается эмоционально вовлечь потребителя, заставить его поверить, что то, что он видит или читает, является правдой. То, что они считают реальным, - это реальность их собственных эмоций, вызванных текстами, созданными писателем-фантастом или журналистом.
III
Демонстрация и признание злодея призваны представлять решение культурных проблем — посредством поимки и обещания наказания. Это также должно быть развлекательным. Одним из наиболее устойчивых и привлекательных методов достижения этой цели является использование качеств, о которых сейчас говорят как о “пошлости”. В Оксфордском словаре английского языка в разделе “пошлость” есть одна неотмеченная ссылка 1727, и в ней цитируется текст 1891 года, содержащий значения убожества, ветхости, неполноценности, низкой морали, грязь, порочность, никчемность и дурная репутация. Большинство ссылок OED указывают на то, что популярное использование этого термина появилось совсем недавно, закрепилось и стало частым к 1970-м годам. Это слово использовалось с возрастающим ликованием на протяжении 1970-х и 1980-х годов и применялось к сексу, политике, бизнесу и всему остальному, что олицетворяло отталкиваемость, продажность и коррупцию (Фишер 1990; Самуэльсон 1991). Это была идеальная культурная концепция, появившаяся как раз вовремя для применения к растлителю малолетних в 1980-х годах.
Пошлость - это качество места и личности. Хотя они могут быть разными, с древних времен предполагалась связь между “крайностями формы и места” (Фридман 1981:35; Портер 1981:190). Было легко предположить сходство одного с другим: неприятные люди, совершающие неприятные поступки, живут в неприятных местах, а неприятные места содержат (и порождают) неприятных людей. Пошлость на самом деле является разновидностью сентиментализма, поскольку она приглашает и поощряет чувственное и эмоциональное купание ради него самого с помощью усиленных, но упрощенных образов. Пошлость была важной частью религиозной и светской реформаторской полемикой не только потому, что ее эстетика помогает привлекать и удерживать аудиторию, но и потому, что чувственность позволяет защитникам безопасно и респектабельно погружаться в привлекательно-отвратительные качества своих оппонентов. Это одна из главных особенностей пошлости: это внешний, обособленный и оппозиционный взгляд. Это дается как отчет о наблюдении человека, смотрящего извне, сверху вниз. Это предотвращает жалость и сострадание, устанавливая и усиливая антагонистические иерархии ценностей. Потребители пошлости - это те, кто за пределами таких сфер; рассказы о нечистоплотности не предназначены для тех, кто составляет изображенное население и живет в данной среде, и не потребляются ими.
Эти определения меняются по мере изменения восприятия и по мере того, как культурные условности становятся устаревшими или скучными. Пошлость в значительной степени зависит от вызванных эмоций, обычно связанных с восприятием самого себя. Отвращение, например, является относительно нестабильной и преходящей реакцией. Пейзажи или артефакты, которые, возможно, когда-то вызывали презрение, могут, подобно костюму для отдыха, вернуться в качестве объекта привязанности и почитания. Язык, который когда-то шокировал, позже может стать обычным дискурсом или вообще исчезнуть. Для усиления воздействия необходимо изобрести новые термины. Аман (Aman, 1992) привел отличный пример от французского корреспондента. Термины pourriture vivante (“живое разложение”) и charogne ambulante (“ходячая падаль”) очевидно, стал слишком ручным и ограниченным, поэтому появился новый термин ”трещина", который означает "невыносимо скользкий, омерзительный, отвратительный, ненадежный, убогий, беспринципный индивид", или, как мы могли бы сказать в нашей менее красноречивой манере, пошлый.
Пошлость как концепция в значительной степени является продуктом процессов упорядочивания и очищения, как предполагает Дуглас (1978:161), особенно в областях культуры, связанных с сексом, политикой или модой. Однако при этом некоторые части этой культуры могут принять пошлость в качестве уважаемого способа желания и самовыражения. Встречи между силами очернения и декадентами 19-го века.[21] Столкновение сил очернения и прославления делает возможными жанры (и одновременно их сатиру) и повышает развлекательную ценность и востребованность предмета на рынке. В сочетании со стремлением к господству и искусственно подстроенная ненависть - эти столкновения часто сопровождаются насилием. Пошлость означает две вещи: наличие определенных чувств и восприятий (страх, отвращение и ненависть) и то, что они возбуждены — что они провоцируются и ощущаются лично и коллективно усиленными, обширными, а иногда и эротическими способами. Пошлость - это трансформационная область в движениях от уродства (эстетического нарушения) к непристойности (моральному нарушению). Отвращение абсолютно базовое и напрямую связано с телесными реакциями, особенно с теми, которые должны делать с изгнанием и экскрецией. Чтобы помочь в этом, эстетика часто связана с образами физических и моральных болезней, разложения, смерти, а иногда и рождения; секс связан с этим, являясь синонимом этих терминов. Но то, что является пошлым, не просто отвратительно, это опасно, и возбуждение страха и побуждения к отвержению имеют решающее значение для восприятия пошлости. Нечистота, компрометация, осквернение, порочность и оскверняющее воздействие рассматриваются как приближающиеся к светским и священным культурным символам, а также к ритуальным и иерархическим различиям, угрожающие опозорить и уничтожить их и силу, которую они несут.
Пошлости просто не существует в мире, она обещает захватить его ради своих собственных демонических желаний. Это не то, с чем можно мириться; это должно быть насильственно устранено. Конечное возбуждение - это праведная спасительная ненависть, которая иногда регулируется, иногда нет, но всегда приветствуется. Функция воображения очевидна при конструировании грязного зрелища; это делает ему честь, когда используется в художественной литературе, хотя оно также используется при конструировании фактов. Учитывая тенденции реализма как в литературе, так и в журналистике на протяжении последних двухсот пятидесяти лет продолжает существовать тесная, хотя иногда и слабая связь между воображением и тем, что воспринимается как реальность. В дополнение ко все еще широко распространенной модернистской тенденции воспринимать реальность как уродство (и наоборот), не случайно то, что называется пошлостью, часто становится “эстетическим клише, маскирующимся под продвинутое понимание или добродетельную осведомленность" (Applewhite 1986: 439; Хантер 1990:308). Несколько жанров 16-18 веков помогли определить современное понятие пошлости. Имея некоторые корни в литературе о мошенничестве, пошлость стала необходимой частью развивающихся жанров ужасов, сенсаций и “порнографии” (Ричетти 1969: 23). К концу 18-го века, с его акцентом на эмоции и чувства, пошлость стала неотъемлемой частью того, что считалось ужасным, и продолжала совершенствоваться в течение следующих двух столетий. Готика и мелодрамы придавали свою энергию показу отвратительного, оскорбительного и опасного. Великие пасторальные повествования, зародившиеся в 16 веке, породили в ответ анти-пасторали и антиутопии, которые стали широко распространены в английской и континентальной образности и распространили свое влияние на американские колонии. Хотя Портер считает, что пессимизм (часто являющийся частью эстетики пошлости) восходит к Мелвиллу и Хоторн как “потерю веры в регенеративные возможности, которые можно извлечь из погружения в природу” (1981: 201), на самом деле это был сдвиг в доминирующем видении природы к более гоббсианскому и дарвинистскому взгляду, который существенно способствовал концептуальному развитию пошлости, когда дарвинизм информировал социальные и теория культуры с конца 19-го века и до появления постмодернизма.
Именно в конце 18-го и 19-м веках представления о пошлости становятся более проработанными и институционализированными. Журналистика была основным источником постановок. Во Франции реализм и натурализм пытались бороться с “беспорядком и убожеством жизни парижских низших классов” (Гордон 1988:9). Журналисты выпускали популярные faits divers, короткие сенсационные репортажи, обычно с сопроводительной иллюстрацией. Гордон отмечает, что из этого вышли грубые пьесы, изображающие низший класс как “вселенную чистой животной страсти”, и от них произошел сам театр "Гран Гиньоль". Портер (1981) говорит о криминальном писателе Рэймонде Чандлере, когда он говорит: “Безвкусица изображаемой жизни - это возможность проявить яркое словесное мастерство”. Это справедливо и для визуальных средств массовой информации, и разработчики текста и изображений стремятся к детальному и продуманному изображению и получают от него удовольствие. Такое внимание уделяется изображению пошлости, потому что они вызывают благоговейный трепет, острые ощущения, возбуждение, похотливость, вуайеризм и другие виды простого веселья. Пошлость была неотъемлемой частью американских романов и фильмов в жанре нуар 1940-х годов. Это отличалось от “сурового реализма” изображений 1930-х годов усилением элементов опасности, насилия и секса, увеличением дистанции между зрителем и объектом съемки таким образом чувства брезгливости и отталкивания, а также устраивают показ таким образом, чтобы зритель становился более подавленным, возбужденным или злым.
В то время как личные качества кодируют пошлость, одним из наиболее эксплуатируемых контекстов пошлости в западной культуре был секс. Особенно в христианских традициях сексуальные желания подозревались в том, что они содержат демонические элементы, а в светских мирах многие виды сексуальности были широко дискредитированы к началу 18 века. Проявления секса, как отдельными людьми, так и в образах, стали ассоциироваться со злодеянием и угрозой к концу столетия, готика несла в себе наилучшую конфигурацию неконтролируемой похоти и смертоносного зла (Бриссенден 1974: 115). Готика и ее сопутствующие жанры (мелодрамы, сенсации и романы о сексе) усиливали элементы частного или скрытого разврата, а также насильственного насилия над невинными - два существенных элемента декаданса и его ближайшего родственника, пошлости. Пошлость, хотя и имеет свои собственные стили, - это декаданс без элегантности. К 19 веку религиозное негодование и нетерпимость по поводу секса сменились научным осуждением и искоренением, хотя связь оставалась прочной. Прикетт отмечает эстетическое слияние секса и пошлости:
Это было в Америке в то самое время, когда научный интерес к монстрам приближался к кульминации, готический поиск драматического момента или сцены наиболее эффективно сочетался с метафизическим ощущением зла, то, что По называл “Бесом извращения”, помогло сделать сексуальное развращение не столько социальным явлением в викторианской литературе, сколько конкретным воплощением или символом силы тьмы. (1979:97f)
У этих пошлых фигур есть естественный дом, место, откуда они родом, и место, которому они принадлежат и куда возвращаются. Одно из определений термина “гротеск” - это темные скрытые гроты, в которых преобладает негативная атмосфера, прикасаясь ко всем, кто входит, и, что еще хуже, ко всем, кто там обитает. Чувствительность пошлости проявляется в самых неожиданных местах. Эта сырость грота послужила источником происхождения человечества для натуралиста Лорена Эйсли. В духе Лавкрафта он рассматривал происхождение человека в контексте, который делает всех нас существами из Грязной лагуны:
Все началось так, как всегда начинаются подобные вещи — в тине незамеченных болот, во тьме затмеваемых лун. Все началось с того, что он судорожно хватал ртом воздух. ... Пруд был местом безрассудства и разложения, зловонные запахи и изголодавшиеся по кислороду рыбы, дышащей через напрягающиеся жабры. Временами медленно сужающийся круг воды оставлял маленькие окошки для пескарей, которые отчаянно метались, спасаясь от солнца, но, тем не менее, умирали в жирной теплой грязи. Это было место низменной жизни. В нем зародился человеческий мозг.. (“Морда” [1950] в Eiseley 1959)
Идея плохих мест долгое время была важной частью народных традиций. Некоторые районы были обозначены как места опасности и ужаса из-за их мрачной, запрещающей темноты или где живут злые существа. Спэкс цитирует Уильяма Памперса стихотворение “Дриады” (1712), в котором говорится о монстрах и “исчадиях ада”, которые “Бродят по мрачным лесам”, и отмечает, что поэт Томас Грей в конце XVIII века подвергся критике за “нелепую любовь к... отвратительным и убогим сюжетам."[22] Такой точки зрения придерживались американские пуритане, когда рассматривали леса Новой Англии, в которых, по их мнению, обитали злые и сатанинские силы. Темы света как истины, сражающегося с силами тьмы и мрака, нашли выражение как один из определяющих мотивов готики, а также внесли свой вклад в то, что мы знаем как экологическую нечистоплотность. Основное назначение зрелищ - служить современным выражением традиций литературы о путешествиях. С помощью репортажей и подробных описаний разврата нас берут в путешествие и дают возможность увидеть (безопасно) поразительные достопримечательности зарубежных или эротических мест. Философ Джереми Бентам задумал “какотопию”, своего рода антиутопию, описав ее как “место зла” (Кумар 1987: 447, примечание 2). Имея в виду криминальную среду, то, что Оден назвал “Великим неправильным местом” (1962:51), является “экзотическим местом, где преобладает мифологическая простота” (Ричетти 1969:24). Будь то в литературе, газетных статьях или телевизионных документальных фильмах это “мифические миры, созданные для того, чтобы взволновать читателя описанием их магических или вредоносных возможностей” (Портер 1981:73).
Одним из таких мест является Ад. Как идея. Гадес присутствует во многих космологиях. “Экскурсии по аду” предлагают захватывающие возможности для теологического развития, социального контроля и развлечений. Основываясь на устном фольклоре, самые ранние “экскурсии” в западной цивилизации существуют за три столетия до христианской эры и характеризуются тем, что они продолжают, телесные наказания в контексте ужасающих условий окружающей среды (Химмельфарб, 1985). Ад ассоциируется с идеями справедливости и социальных отношений и утверждают сверхъестественное утверждение человеческого закона. Экскурсии по аду одновременно развлекают и подтверждают представления о типах людей и их поведении, предлагая с помощью того, что Уокер называет “отвратительной фантазией”, возможность избранным богом увидеть страдания и поаплодировать им, воспринимая это зрелище как доказательство их собственной доброты и невинности.[23] Пейзажи всегда имели эстетическое и моральное значение для наблюдательного человека, и для многих самым большим “неправильным местом” из всех был город. Тексты, критикующие “цивилизованную” жизнь, сохранились от древних культур, но именно современный город предоставил нам “реалистичные панорамы столичной развращенности”.
(Смит 1973:42, говоря о мелодрамах 19-го века). Уродство и грязь — неотъемлемые составляющие пошлости, и это сочетание требует божественного вмешательства реформаторов, таких как преподобный Талмедж, который заметил: “Грязный город всегда был и всегда будет порочным городом” (1878:128). Тесно связанная с этим идея уродства как человека, так и места была усилена модернистским менталитетом и продолжает нести в себе атрибуты самоограничения, деградации, бесчеловечности, осквернения, отвращения, фрагментации, жестокости и низости (Applewhite 1986). С увеличением концентрации городского населения появилось то, что социологи называют “аномией”, чувством изоляции, уязвимости, потери и бессмысленности. Многое из этого отражало возросшее разнообразие людей и их образа жизни в городе, усиливая ощущение хаоса. Внимание возвращаясь к пуританским страхам перед дикой природой, городские романы с самого начала несли в себе темы отчуждения, одиночества, разрушения традиций, неэффективности любви и религии, механизации и материализма (Гельфант 1954: 21). По мере роста городов сельские пейзажи стали идеализироваться как менее угрожающие, более привлекательные и обещающие облегчение и спасение от все более разрушительного мира, созданного людьми.
Для Августина человеческий город был самой сутью коррупции. Христиане с XIV по XVIII века распространяли свое презрение к человеческому телу и человеческому миру со все возрастающей суровостью. К XV веку города представляли собой извращение разумного порядка и потерю рассудка. Было меньше терпимости к разнообразию, и отклонения от любой эстетической или интеллектуальной нормы назывались чудовищами и извращением приличий (Делюмо 1990: 128ff, 136; Хилл 1975: 32-45; Родос 1980). В 16 веке города стали особенно известны болезнями и бедностью. В 18 веке это продолжалось (Дефо, 1948), и, начиная с первой четверти 1800-х годов, 19-й век предложил одни из лучших образов города как пошлости места. Данлэп (1965) и Хантер (1990) отмечают ряд негативных городских тем в романах 18-го и 19-го веков. Скученность, как в смысле количества людей, так и в смысле физической перегруженности зданий, имела первостепенное значение.[24] Толпы были основным источником беспокойства с 17-го века, и с увеличением числа иностранцев и растущей социальной и экономической дистанцией между классами проблема стала острой. С самого начала акцент делался на “грязь, беспорядок, убожество, свидетельства низкого уровня жизни” (Сэмпсон 1983: 140f). “Свидетельство” стало ключевым словом, поскольку одна попытка контролировать все это была предпринята с помощью списков, описей разновидностей, собранных воедино “силой видения” наблюдателя (Миллер 1980). В 19 веке появился особый тип наблюдателя — фланер, отстраненный, но заинтересованный городской зритель. Этот наблюдатель попытался отразить растущую путаницу, составив списки персонажей, которые теперь известны как “профили.”[25]
Эти рассказы были путеводителями как в реальном, так и в переносном смысле. В книгах начала XVIII века, посвященных городскому зрелищу, публиковались истории, которые были “грязными, причудливыми, оскорбительными или диковинными”. Преувеличение персонажей, событий и поведения было обычным явлением, востребованным новым жанром, таким как “Ужасные и поразительные вещи” Неда Уорда, востребованные читателями конца 17 века (Брэнд 1991: 28, 30). Развитие городских центров с поразительными очагами бедности достигло классических масштабов к началу 19-го века. Трущобы, особенно с этническим населением, стали притонами тайны и зла, греха и порока, нищеты и опасности. Этому способствовали, если не спровоцировали, сенсационные формы освещения городской бедности в литературе и новостях, а также столь же сенсационные усилия по реформированию. Все это усилило моральное разделение между богатыми и бедными, одним из следствий чего стал призыв к усилению контроля со стороны органов религиозного и светского спасения. Представление о городе как о патогенном непосредственно способствовало разжиганию паники (Фуко 1980: 175). Пошлость остается важным эмоциональным инструментом для мобилизации ресурсов на реформы или линчевания толп. Разоблачения, по сути, были прославлением “эгоцентричных истин среднего класса” (Giamo 1989:41). Миссионеры приходили в основном для того, чтобы спасать бедных от самих себя, а соответствующие признания спасенных демонстрировались и распространялись.[26] Посторонние совершали экскурсии по районам бедности, иногда их сопровождала полиция с фонарями, изображение часто повторялось в тексте и визуальных эффектах.[27] Их место теперь занимают прожекторы и камеры телевизионных новостных групп очевидцев и видеокамеры полиции. Стэнселл отмечает, что
несмотря на свое собственное своеобразное восприятие, они перевели этот опыт [из туров] в определенные условности воображения — настолько, что рассказы домашних посетителей с их шаблонными ситуациями, набором стандартных персонажей и ритуализированными разговорами сами по себе стали представлять собой вымышленный жанр.[28]
Дети были особым источником беспокойства в шумном городе, и они стали источником, а также мишенью пошлых образов. Большая часть английских и европейских изображений звучала правдоподобно для американцев середины 19-го века. Бродячие и бедные дети иностранцев в крупных городах все больше воспринимались как продукты моральной, религиозной, юридической и экономической несостоятельности. Излагая предупреждение для населения о грязных и опасных детях на улицах в “городском очерке”, шеф полиции Нью-Йорка в 1849 году нашел готовый и некритичный канал связи через городские информационные агентства (Slansell 1986; 194f), потому что это было такое хорошее развлечение и потому, что жанр был общепринятой формой, какой он является сегодня, популярного факта. Были предприняты две основные попытки контролировать ситуацию. Во-первых, для тех, кто не хотел переходить в другую веру или работать, общества помощи детям начали отправлять детей поездами на запад, где их усыновляли и использовали в качестве рабочей силы в сельских семьях.[29] Другой целью было продолжение усилий в области образования на местном уровне. Ноэль цитирует редакционную аннотацию к недатированному детскому рассказу под названием “Боб и Кобб, или король Паутинного зала“, в которой излагается цель рассказа: "легенды о преступлениях и ужасах, которые могут служит для того, чтобы предупредить городскую молодежь и молодежь из маленьких городков об опасности первого шага и о многих опасностях, с которыми можно столкнуться в большом городе”. Из самого рассказа Ноэль (1954: 173) предлагает следующий текст, который соответствует условностям “городского скетча”, а также вносит свой вклад в идею, известную нам сейчас как неряшливость:
Ветхие, покрытые грязью лестницы... узкие и дурно пахнущие коридоры, из которых можно было попасть в тесные и грязные комнаты, выглядевшие так, словно их сотрясло землетрясение. В этих комнатах и залах, в любое время дня и ночи, раздуто, вокруг шныряли мужчины и женщины с ввалившимися глазами, нечесаные - мужчины и женщины, которые редко смотрели кому—либо в лицо, даже представителям своего класса, проявляя хоть какое-то проявление человеческого духа только тогда, когда им удавалось затеять пьяную ссору между собой или избить кого-нибудь из полуголодных, полуголые, озорные дети, которые кишели во всех уголках этого ужасного места.
Ключевым элементом была преступность, и это хорошо послужило имиджу города как пошлого места. Диккенс специально пересмотрел и установил новые эстетические критерии, используя детей, подвергшихся насилию. Связано с развитием работы полиции, социальных служб и журналистики, акцент на бедности и этнической принадлежности давали провокационные проблески коррупции и разврата в 19 веке; Зельдин (1970) отмечает, что французский священник был особенно расстроен откровенным сексуальным поведением детей из трущоб. Это мнение сохранилось и в 20 веке. Моттрам (1989) цитирует Письмо Г.П. Лавкрафта 1924 года о его посещении Китайского квартала Нью-Йорка:
Органические существа — итало-семитско-монголоидные — населявшие эту ужасную выгребную яму, ни при каком напряжении воображения не могли быть названы людьми. Они были чудовищными и туманными образцами питекантропоподобные и амебоподобные; смутно вылепленные из какой-то вонючей вязкой слизи земного разложения, они скользят и сочатся по грязным улицам, врываются в окна и дверные проемы и вылезают из них таким образом, что не наводят ни на какие мысли, кроме как о кишащих червях или глубоководной враждебности.
Портер предполагает, что в увлечении городом в XIX веке действовали два импульса. Одним из них был обоснованный и искренний гуманитарный интерес к достижению “жизни ниже среднего”, наряду с сочувствующей, но восхищенной реалистической школой представления, которое нашло новый источник вдохновения для текста и визуальных эффектов. Другим было то, что Портер (1981:25) рассматривает как “позднюю романтическую озабоченность темной стороной души и развитием способностей разума, выходящих за рамки того, что обычно считается возможным”. Города предоставили много материала для антиутопических нарративов, особенно когда они были местом проведения попыток реформ или революции. Неряшливость становится предсказателем, предварительным просмотром грядущих событий, возникающим из разочарованной или оскорбленной ностальгии. Неряшливость поощряет паранойю, которая сама по себе является своего рода ностальгией, но все еще с силой, чтобы справиться с горечью и ненавистью. Образы городов 19-го века как болот, кишащих ползучими тварями, нашли удобное и эффективное место в культурном репертуаре конца 20-го века. После Второй мировой войны, и особенно с 1960-х годов и евангельского возрождения фундаментализма, город снова занял свое место в качестве источника пошлых образов. Дети занимают видное место, и благодаря жесткому, но почти доброкачественному реализму Dead End перешел к гораздо более жестким образам молодежи, затерявшейся в тотальном культурном упадке, как в фильмах (“Хардкор” и "Американский кошмар"), в которых девочки-подростки поглощены грязным городским сексуальным "образом жизни" и отдаются ему. В этой аннотации к книге Кэмпбелла (1987) в качестве тизера используется его текст с первой страницы книги:
Добро пожаловать в Ла-Ла-Лэнд: темный, залитый неоном Лос-Анджелес с “раковыми бульварами", по которым шествуют шлюхи, катамайты, парни-близнецы и транссексуалы, ряды бездомных в трущобах; улицы усеяны алкашами, сосущими бутылки в пакетах, и наркоманами, принимающими наркотики.[30]
В 20 веке, особенно в изображениях после Второй мировой войны, наблюдается возвращение к разрушенным городам 18 века, но здесь мотив более апокалиптический. Религиозный менталитет подчеркивает Последние дни, в которых хорошие парни попадают на небеса, а плохие страдают наглядными и отвратительными способами. Светские взгляды видят более материалистический конец в ядерном холокосте или экологической катастрофе. Этот “антиутопический” образ несет в себе полный груз пошлости, потому что все старые тревоги, по сути, все еще существуют. Провоцирование апокалиптического кризиса — еще один признак чудовищного злодейства. Есть много способов говорить об этом, но самый эффективный способ - показать жертву.
8
ЖЕРТВА КАК ЗРЕЛИЩЕ
I
Вся концепция жертвы построена на идее невиновности. Жертва понятия не имеет, что происходит, и не заслуживает того, что происходит. Невинность — это состояние естественного порядка, целостности и совершенства в знаниях и поведении. Невинность однозначна; приостановленная анимация - это сопротивление переменам, слиянию и компромиссу. Невинный ребенок - предмет пасторального повествования, фигура в эдемском окружении. Повествования о детской невинности рассуждают о спокойствии, общественном единстве, духовной самореализации и естественном законе. Размещение позволяет, как и многие другие повествования о Золотом веке, определенная доля пышности и праздничных зрелищ, а также распределение негибких ролей. Возможно несколько пасторальных историй, каждая со своей собственной структурирующей моралью. Один из них проецирует музыкальный пейзаж с чувственно скачущими опьяненными сатирами и нимфами, одно из древнейших видений человечества. На другом изображены хорошо отрегулированные передвижения пассивных стад по прекрасным лугам, которым напевают и за которыми наблюдает доброжелательный пастух, защищающий овец до тех пор, пока не придет время их стричь или забивать.
Большая часть американского общества, особенно религиозные субкультуры, помещает невинного ребенка в контекст последнего приведенного выше примера, неотъемлемой частью которого является асексуальность. Особенно после того, как в 5 веке была ликвидирована пелагианская ересь, сексуальность стала более прочно ассоциироваться с некоторыми древнееврейскими и языческими идеями насилия, угрозы и смерти; целомудрие и девственность были возведены в ранг святости (Brown 1988). Секс определялся как нечто отличное и противоположное любви, и в 19 веке его наличие у женщин и детей было признаком испорченного морального здоровья. Сексуальные интересы и поведение рассматриваются как “отыгрывание” или “крики о помощи”, показатели личностного и социального срыва. Учитывая сопротивление женщин в 1960-х и 1970-х годах, ребенок был следующим логичным местом для хранения качеств, которые были зарезервированы для женщин и некоторых мужчин: пассивности, страха, покорности, уязвимости к эмоциональным манипуляциям и физическому и моральному ущербу. Ребенок, как и идеализированная женщина, стал идолом, и его сила не могла быть поставлена под сомнение, поскольку сделать это означало подвергнуть сомнению весь комплекс верований и взаимоотношений, которые окружают невинных (Санта 1987: 521). Вера 19-го века в то, что высшие истины и высшие авторитеты представлены и воплощены в ребенке, нашла отражение в призывах “Верьте детям”, которые так пронзительно звучали в 1980-х годах.
В хрупком пасторальном мире, находящемся в осаде, невинная фигура в лучшем случае является “предварительной жертвой”. Силы уже задействованы и выровнены: угрожающая фигура педофила “предрасположена”, а ребенок “находится в группе риска”. Сценарий угрозы порождает свой собственный фольклор, и его повествования становятся текстами с восхитительными подробностями и строгостью нормативных актов. Чтобы смягчить эти функции, необходимо продвигать соответствующую культуру сентиментальности, в которой страдания и самопожертвование жертвы направлены на достижение высшей цели. Уязвимость подчеркивается там, где она существует, и выдумывается там, где ее нет. У мужчины, которого называют “Уильям”, были длительные отношения с 12-летним мальчиком, но мальчик никогда не жаловался на эти отношения, и мальчик заботился об “Уильяме" и любил его. Он был арестован, “Уильям” отвел его на консультацию и, следуя указаниям консультантов, начал рассказывать мальчику, что он приставал к нему, но мальчик продолжал отрицать, что чувствовал себя растленным.После продолжительного воздействия этого мальчик, наконец, “сломался” и принял определения, которых требовали терапевты (O'Brien 1986:65). Показания жертв должны согласовываться с признаниями злодеев, и при необходимости их можно подогнать под более правдоподобные показания. Телесность, которую так трудно устранить, либо становится “бестелесной” как внешняя сила, либо помещается в служение сентиментальности посредством демонстрации тел, сотрясаемых горем, трансформированных дегенерацией или уничтоженных дикостью. В конечном счете невинное становится скучным из-за своего однообразия и застоя, поэтому в ориентированной на развлечения потребительской культуре жертва должна быть превращена в зрелище катастрофы. В рекламном ролике фильма, который она сняла, говорилось, что никто не приглашен “ПОСМОТРЕТЬ! Счастливый, нормальный смех физически очаровательных молодых девочек, сменяется истерическими взрывами помешанных на наркотиках женщинах!” Люди заплатят, чтобы увидеть это.
II
Считается, что детство, как невинность, лишено осознания секса и смерти. Такие темы противоречат детству, но когда они вторгаются (всегда извне), предполагается, что они ужасно травмируют как индивидуально, так и социально. Чтобы определить особость и уязвимость, пасторальные повествования о невинности должны также создавать ландшафты подлости. Интенсивность и эксплицитность того и другого являются функциями более фундаментальных чувств социальной стабильности, порядка и непрерывности. В той мере, в какой идеалы продолжают опережать реальности и/или изменения, все труднее игнорируемые недостатки и провалы в чистоте и совершенстве будут способствовать все более требовательным дискурсам угрозы. Страдания жертвы неизбежны. Нарушение и потери неизбежны, и нет возможности остановить уникальный ход событий, раз он начался. Циклы превращения людей в насильников - это темные звенья Великой Цепи Бытия, идеи прогресса и последовательного развития 19-го века. Снова и снова демонстрируется необходимость травматических последствий от контакта с педофилом, хотя и в ограниченном разнообразии повествований. Если основные сюжеты ограничены, это с лихвой компенсируется повторением. И когда делаются утверждения относительно непосредственного действия и непосредственного воздействия педофила на жертву, существуют также утверждения о том, что подобные способы реагирования являются единственными, способными разрешить ситуацию, такими как прямой самосуд или казнь.
Линейная логика в дискурсах о злоупотреблениях опирается прежде всего на мифологические предпосылки, предположения о вечных божественных законах и/или разновидности науки 18-го века, которые верили в конечное познаваемое число универсальных причинных принципов. Линейная причинность - это пережиток ньютоновской механической физики, разделяющий акцент на контроле и силе с модернистскими политическими и экономическими идеологиями. Сюда входит предположение, что авторитет представляет божественную волю или научную достоверность, полученную с помощью традиционных ассоциаций. Основываясь на этой самоназванной древней мудрости, линейные предположения по своей сути ограничивают физическую, эмоциональную и интеллектуальную игру, которой так славятся люди. Спекуляции о знании и реальности считались слишком опасными для социального выживания в разные периоды истории, за исключением 1980-х годов. Таким образом, второе направление линейной цепочки проявляется как политическое упражнение в глубокой преданности и обязательности, в котором линии причины и следствия определяют границы личной и социальной изменчивости и определяют последствия нарушения границ формы и функции. Поиск причин - это поиск контроля.
Инвестиции в виктимизацию и выживание — это способ восстановления и обретения власти как для тех, кто берет на себя эту роль, так и для тех, кто ее продвигает. Теория такова, что секс между подростками и взрослыми лишает младшего партнера власти, и спасение возможно только через возрождение новой личности. Хотя будущее (восстановление) якобы основано на языке надежды и прогресса, на самом деле оно представляет собой реконфигурацию, осуществляемую только путем отрицания и параллельной реконструкции как прошлого, так и настоящего. Это особенно необходимо, когда культура сталкивается с любыми признаками сексуального поведения ребенка, реального или потенциального. Ребенок частично определяется его настойчивостью в немедленном удовлетворении. Такие дети должны иметь свое нынешнее состояние, и их удовольствия, постоянно отслеживаемые на основе представлений взрослых о прошлом и будущем. Все общества разделяют эти механизмы социализации и приобщения к культуре, некоторые реалистично, другие социопатически, когда воспоминание — это не что иное, как ностальгия, а ожидание - не что иное, как страх.
Тексты против жестокого обращения с их акцентом на мучениях находят удобный союз с американской традицией иеремиады, в которой, как справедливо заметил Гирц, “проблема страдания, как это ни парадоксально, заключается не в том, как избежать страданий, а в том, как страдать” (1966:19). Сетования на трудности и неопределенность личного и общественного спасения становятся общедоступной валютой, развлекательно демонстрируемой для спасения всех. Страдание - это свидетельство реальной опасности, святости жертвы, законности вмешательства героя и обоснованности Великого замысла, связывающего все воедино. Поскольку "иеремиада" основана на грехопадении, потере смыслов и обязательств, страдание обязательно представлено и объяснено способами, которые укрепляют конкретные моральные ценности и авторитет, павший на неиспользование или неуважение. Страдание - это предварительный просмотр грядущих достопримечательностей. Ожидание, с его апокалиптическим нетерпением, переживается как тревога. Беспокойство и страдание, с их эротическими оттенками, всегда были существенными составляющими сентиментализма. Сентиментальные образы дистиллированы и сжаты, но в то же время готовы к расширению благодаря творческому использованию зрителем символов и клише. Это внутреннее расширение зависит от фантазии в сочетании с ощущением себя морально праведным или виновным в грехе. Экспансивность сентиментальной полемики побуждает к героизму, побочным продуктом которого является истерия.
Но, возможно, величайшим продуктом сентиментальной культуры является ностальгия. Это нечто большее, чем простая потеря того, кем восхищаются. Это вычитание, уменьшение невинности и красоты, исчезновение форм, с которыми человек был знаком, и, следовательно, исчезновение ощущения сходства мира с самим собой. Более того, это замена этой невинности и красоты их противоположностями, их врагами. Именно этот двойной процесс удаления и замещения превращает перемены в конфликт, победу чьих-то противников и поражение чьего-то мира. Как сожаление, потеря знакомой и контролируемой реальности отражается на исчезновении формы и смысла, она ускользает, требуя глубоких вложений в память. Сентиментальное воспоминание избирательно, и в той мере, в какой оно потакает своим желаниям, оно становится чувственным и преувеличенным, как любое хорошее упражнение в аутоэротизме. Страдающие жертвы как мученики, как памятники утверждаемому постоянству травмы и врожденности патологии, становятся артефактами ностальгического изображения времени, основанного на первой причине. Страхи перед непрерывностью и разрывом сталкиваются из-за ребенка, который представляет запас памяти взрослого и уныние по поводу перемен. Обращения к памяти в ностальгических целях - это способы прервать или остановить изменения, которые воспринимаются как дегенеративные. Когда это делается с помощью методов “восстановленной памяти”, это нечто большее: это способ начать все сначала на своих собственных условиях.
Ностальгия — это не просто сохранение памяти, но и ее празднование, нечто вроде неудавшейся вечеринки, на которой присутствует унижение, разжигающее печаль. Утраченное (которое было заменено) все еще присутствует, но в форме, искаженной разочарованием. Ностальгия, должно быть, несет в себе обременительный груз воскрешения, последней надежды. В качестве еще одного препятствия разрушение тела в текстах о насилии представляет собой уничтожение самой возможности ностальгии. Чтобы передать это, повествования должны быть наглядными. Ностальгия - это проекция святости и корректности из памяти, и подлец должен сообщать о ее нарушении, страданиях и угрозах. Грязные нарративы, особенно те, которые вращаются вокруг тела, являются моральными дискурсами, потому что они говорят о неудачах систем регулирования и благочестия и бросают им вызов. Грязные нарративы касаются не только отсутствия или отрицания определенных ценностей, но и дают наглядный отчет об их утрате и разрушении своего мира. Ностальгические тексты должны явно или неявно быть связаны с дискурсом подлости. Существует легкое концептуальное движение между ностальгией, паранойей и ужасом. Знакомое, то, чем человек окружен, когда воспринимается как нереальное, непостижимое или лживое, может вызывать видения опасности и вызывать восклицания, часто бессвязные, о катастрофе.[1] Когда это порождает печальные воспоминания, потеря включает в себя печаль и сожаление, воспринимаемые как бессилие. По мере того, как появляется самообвинение, появляется и страх, тогда защитная реакция, гнев и шепот ненависти. Это чувство потери, переходящее от вины к ярости, часто жадно используется для продвижения товаров или политики. Усовершенствования достигаются путем экспансии, сосредоточения внимания на чудовищности внешнего злодея или сокращением, олицетворением чувства незначительности и слабости в уменьшенной форме.
Невинность и виктимность отчасти становятся возможными благодаря патерналистской миниатюризации, и что может быть лучшим примером миниатюры, чем ребенок. Женщин использовали таким же образом. Стюарт (1984) предлагает ряд соответствующих наблюдений. Миниатюры часто воспринимаются как выражение подчиненности. Миниатюра преуменьшает или стирает беспорядок, а меньший размер облегчает управление и делает его менее сложным. Миниатюра олицетворяет домашнее, духовное и частное, в то время как гигантское представляет общественное, светское и внешнее. Миниатюры можно создавать с помощью фантазии, перемещать по обстановке и профессиям, как кукол в кукольном домике. Миниатюра персонализирована и связана с созданием интерьеров до такой степени, что восприятие миниатюры - это переживание, фундаментальные внутренние элементы личности, таким образом, эмоциональные и чувственные выражения, сопровождающие просмотр мелких вещей. Таким образом манипулируют детьми, и взрослые могут быть сведены к своему “внутреннему ребенку” для аналогичного позиционирования. Миниатюризация автоматически создает дистанцию, обычно физическую. Когда миниатюра связана с ностальгией, она также представляет временную дистанцию. Манипулирование становится проще.
Дистанцирование также позволяет миниатюре ассоциироваться с пространственной и временной замкнутостью и является допустимым уходом от роста и изменений. Фото детей “всегда идеологичны, поскольку они глубоко увековечивают мгновение и иллюстрацию нравственного устройства жизни” (Стюарт 1984:49; 65). Опасения по поводу развращающего влияния сексуальных изображений - это также опасения, что дети, запечатленные на фотографиях, оживут. Контроль над фотографией посредством определения содержания или запрета артефакта - это магические способы контроля над детьми и их сексуальной угрозой. Миниатюре благоприятствуют визуальное представление и запоминание, оба способа изменения времени. Один из самых глубоких замечаний, которые критики секса между молодежью и взрослыми смогли сделать против того, что они считают “детской порнографией”, заключаются в том, что “ребенок никогда не стареет”. Этого и следовало ожидать от артефактов и текстов ностальгии. Фотографии по своей природе создают воспоминания; кажется, в этом весь смысл. Это позволяет владельцу артефакта вызвать и стабилизировать память, вкладывая в фотографию веру в то, что, по крайней мере, в какой-то степени вещи были и будут сохранены такими, какими они были и должны быть, особенно в контексте настоящего или будущего, которое является неудовлетворительным или неопределенный. Фотографии детей чаще всего ассоциируются с домом и семьей; они представляют размещение себя и других в символическом, историческом и физическом контекстах, все это связано с памятью и надеждой. Ностальгия упускает волнение от участия и самоутверждения бытия и вынуждена искать его в воспоминаниях.
Энергия, вложенная в образ ребенка как уязвимой страдающей жертвы, означает превращение детства и детей в более определенный и предсказуемый объект, который может быть размещен социально, культурно и специально для встревоженных взрослых людей — психологически. Если смотреть сквозь призму ностальгии взрослых по их собственному реальному или воображаемому детству, “торопливые” дети или те, у кого “отняли детство”, подвергаются критике, которая, по-своему иронично и извращенно, пытается защитить заявляют, что “они никогда не стареют". Теории развития были способом обездвижить рассеянную, гетерогенную и изменяющуюся сущность, сделав ее более управляемой, механистичной и отстраненной. В качестве психологических и культурных карт теории развития предлагают все инструменты, необходимые для согласования самооценки и другого. С помощью схем развития — сконфигурированных систем власти — человек может быть способен высказываться о правильности или неправильности в изменчивом ландшафте себя и общества.
Джеффри Вагнер (1954:53) заметил, что “экстаз по своей природе недолговечен”. Но для мастурбирующего педофила и ностальгирующего защитника он может быть пересмотрен, обновлен, изобретен заново. Это достигается за счет повествования об артефакте, за счет продуманной работы фантазии и игры, к которую приглашают все изображения, которым они подчиняются и для которых многие намеренно сконструированы. Фотография переконтекстуализирована, а изображенные персонажи события оживляются способами, которые в значительной степени зависят от настроя зрителя в любой момент времени. Основываясь на своих собственных историях и ассоциациях с артефактами, другие наблюдатели будут создавать свои собственные истории, особенно когда речь идет о сексе. Изобретение фотографии сослужило хорошую службу ностальгии и ее относительному отчуждению. Воссоединение себя с историей требует расширения первого и сужения второго до приемлемых размеров и содержания (Stewart 1984: xii). По тем же причинам, один набор изображений может быть предпочтительнее или разрешен по сравнению с другим, который в явных или неявных заявлениях квалифицирует или опровергает претензии на универсальность и исключительную достоверность. Защищенные в пространстве и времени, дети на фотографиях могут быть вызваны или им разрешено свидетельствовать о любом данном стечении обстоятельств. Считается, что дети в семейных альбомах укрепляют комплекс традиций, в то время как дети на сексуальных фотографиях находятся в плену.
Истории о зверствах и повествования о пленении формируют абсолютно базовый дискурс в текстах против жестокого обращения. Обладающие большинством характеристик и часто фактически зависящие от признания злодеев, свидетельства страданий интегрируются в культуру, через ассоциации с другими жанровыми повествованиями о пленении, обращении и искуплении. Это повествования, которые поддерживают культурные структуры и поддерживают их границы, очерчивая участников и их ценности. В 1980-х годах, с акцентом на “выжившего”, благодаря группам поддержки и свидетельским показаниям было создано новое чувство общности, воссоздано психологическое, социальное и культурное единство, которого, как считалось, не хватало или которое было разрушено. Но есть хорошо известный риск того, что исповедники жертв могут сами показаться монстрами или уродами, когда они пытаются рассказать свои истории (Фрейзер 1974:60), особенно в эстетике развлечения. Это одна из причин, почему такие истории должны быть тщательно сконструированы и инсценированы. Истории о страданиях и спасении поучительны и, если они хорошо написаны, могут стать отличным театром и увлекательным чтением.
Многие истории о сексуальном насилии относятся к жанру “рассказов о зверствах” и, независимо от того, сфабрикованы ли они, преувеличены или нет, они сыграли решающую роль в определение образов педофила, жертвы и героического спасителя. Называемые “историями ужасов” (Соман 1974:198, Синьориелли 1980:198), они сыграли решающую роль в формировании общественного мнения, в поддержке официальных институтов и ролей, и необходимы для принятия и обеспечения соблюдения законов, основанных не столько на эмпирических реалиях, сколько на оскорбленных чувствах или политических желаниях. Сотрудничество между развлекательными и административными учреждениями в этом отношении было как существенным, так и последовательным (Nelson 1984). В то время как основным направлением маркетинга и распространения историй ужасов была печатная и радиовещательная журналистика, другим популярным источником были лекции или Обширный семинар, сети и туры консервативных и религиозных фундаменталистов были сформированы в середине 1970-х годов (в основном вокруг культа страха того времени) и значительно расширилися в течение 1980-х годов. Сексуальное насилие над детьми быстро стало одной из самых горячих, занимательных и прибыльных тем. Гордон Томас (1991: 60-66), писавший так, как будто он был там и внутри ее сознания, привел отличный пример этого, рассказав о лекции, предположительно прочитанной под псевдонимом “Сьюзен Уормсли”. Ее лекция состояла из рассказов об исчезающих детях, захваченных международными группировками, управляющими несовершеннолетними проститутками-наркоманками, включая тот, который, как она утверждала, предназначался исключительно для водителей грузовиков, зарабатывающих миллионы долларов в год: “Эта информация всегда вызывала всеобщее изумление. Она делала паузу, как научилась делать” (ее наставником по рассказыванию историй был ее муж). Она рассказывает аудитории о взятках и коррупции чиновников, которые препятствуют раскрытию и арестам. “Обычно этого было достаточно, чтобы гарантировать центру чек на приличную сумму. Но сегодня вечером она пойдет дальше”. Она расскажет историю о фильме "Нюхательный табак".
Они у нее были. ... Она привела их, все более испуганных и плененных, туда, куда хотела. Теперь, когда она достигла этой точки, она остановилась, обшаривая глазами переполненный зал, ненадолго останавливаясь на одном восхищенном лице за другим. Она подумала, как хорошо она прислушалась к совету [мужа] Боба. “Укрепи их. Просто заставь их ждать. Никогда не торопись”.
Она начинает свой рассказ. “Губы женщины в первом ряду начали двигаться дальше, увлекая их за собой своей беглостью. Трепещи"… аргументы”, - сказал Томас. Фильм "Нюхательный табак" был снят в Южной Америке и сейчас, по ее словам, находится в производстве в Соединенных Штатах. Быстрым взмахом руки она заглушила начавшийся было возмущенный ропот. ... Уверенно и со спокойной уверенностью Сьюзен продолжила пронзая их своими откровениями”. Она рассказала о 12-летней тайской девочке, снимающейся в фильме. “Несколько женщин в зале прикрыли рот руками или носовыми платками”. Уормсли сказал, что девушка была изнасилована, а затем задушена до смерти на пленке. Фильм был отправлен в Амстердам и распространен по всему миру через “snuff network” для “растущего числа мужчин и женщин, которым действительно нравится смотреть видео с сексуальными убийствами в реальной жизни”. Уормсли ”швырнул" рассказ в аудиторию ”фразами, похожими на удары молота", закончив финальным “толчком”.
Напряженные и разрозненные отношения между культурными системами ценностей в сочетании с ощущаемой фрагментацией личности приводят к тому, что акцент делается на повествованиях о плене и побеге.[2] Они символизируют не только более очевидное стремление к “возрождению”, но и сигнализируют об окончательном окончании тяжелых времен плена и расставании с ними. В то время как истории о пленении и похищениях основаны на потерях, они дают надежду на возвращение. Драматическое напряжение вызвано желанием вернуть и обновить темы Американского пуританства, найденные в книге Мэри Роулендсон. Первым бестселлером американской прозы стал роман Роулендсона "Пленение в 1682 году". Истории о пленении, популярные в 17-19 веках, будь то ранние религиозные или более поздние развлечения, сфабрикованные журналистами, были восстановлены, об искушении и развращении, личных и социальных угрозах, спасении и мести.[3] Они рассеивают и обращают вспять чувство вины за бессилие или участие. Они рассказывают о героизме, проявленном через незаслуженные, но поучительные страдания. Явные детали, предлагаемые в этих повествованиях, безусловно, интересны, но также связаны с верой, надеждой на то, что чем больше страданий, тем полнее возрождение и тем существеннее спасение. Опираясь на эти давние традиции, особенно те, что восходили к 17 веку и смещали акцент с социальной фрагментации на внутреннюю личную фрагментацию, 19 век прочно закрепил представления о страданиях в различных жанрах. Некоторые стали жертвами стихийных бедствий, некоторые попали в плен, некоторые были больны или травмированы — последние сформировали широко распространенный “культ инвалидности” (Дейкстра 1986; 25ff).
С этим связан сопутствующий поиск первопричин, “реальных причин за потерю. Это дает возможность исследовать невыполненные родительские и социальные обязанности. Ищутся связи и переживается по этому поводу, логика почти всегда линейна (“Если бы я только проводил его в школу в тот день”). Потеря и анализ причин обеспечивают наличие чувства вины. Неразрешенное чувство вины дестабилизирует повествования; обвинение себя или других, или даже жертвы - это разновидность именования, которое может помочь закрепить общий контекст. Как часть этого, особенно в этой культуре, представления о себе и мире, дестабилизированные потерей, порождают экономику замещения, чтобы воссоздать смещающиеся или исчезающие элементы реальности. Будут такие рассказы, как “Почему это не мог быть я“, но также появятся устройства ”Если бы только", которые заменяют одну потерю другой или заменяют фокус на себе на другом фокусе. 1980-е годы не оставляли особого выбора людям, которые занимались отношениями между взрослыми и молодежью. Вряд ли кто-то признает факт позитивного секса между молодежью и взрослыми, Армстронг (1990) тем не менее, это указывает на то, что для молодых людей, которые “раскрывают информацию”, будущее совсем не привлекательно: они могут попасть в тюрьму, либо оказаться в приемной семье, либо публично подвергнуться стигматизации и/или будут отправленным на терапию. Поскольку последнее казалось наиболее щадящим, “раскрывать” означало рассказывать истории, правдивые или нет, которые удовлетворяли требованиям поддерживающего лечения.
Эта драма воспоминаний должна сделать акцент на показе, вуайеризме и эмоциональном барахтании. Важным маркером был жанр комбо-ролика, предлагающий вуайеристское потворство ностальгии, плену, жестокому обращению и разоблачению через выступление жертвы. В 1978 году Кристина Кроуфорд, дочь кинозвезды Джоан Кроуфорд, опубликовала книгу "Дорогая мамочка", рассказ о своей жизни в руках жестокой матери (фильм был снят в 1981 году). Кроуфорд опубликовал роман о жестоком обращении с детьми (1982) и дал показания на эту тему. Она вообще выступала против того, что считала эпидемией жестокого обращения с детьми, и позже выпустила продолжение своей саги, получившее подходящее для конца 1980-х название "Выживший" (1988). Поджанр и оригинальная крылатая фраза сохранялись на протяжении всего десятилетия вплоть до 1990-х годов.[4] Историк Марта Банта (1987: 639) утверждала, что “в наши дни...тело не является привилегированно значемым”. Банта писал в то время, когда на самом деле тело резко обостряется как средство выражения и как место для всех основных и большинства второстепенных претензий политической борьбы. Самым выдающимся и распространяющимся телом было тело жертвы сексуального насилия, того, чье тело демонстрировало (или, выражаясь языком того времени, "соответствовало”) не только сексуальную активность, функцию организма по преимуществу, но и тело, которое разрушалось по мере того, как его демонстрировали. Одним из наиболее устойчивых способов изобразить страдание, особенно искупительное страдание, является прямая и недвусмысленная ссылка на физическое тело и его чувствительность. Для культуры, ориентированной на получение удовольствия от насилия, страдающая жертва представлена прежде всего разоблачением, допросом и препарированием тела. В вопросах, связанных с сексуальностью, западная история тела предоставила некоторые из своих самых ужасных и восторженных текстов и изображений.
III
Страдающая жертва - это павшая жертва. Потеря невинности - это потеря физической, личной и социальной целостности. Жертва не только подверглась насилию, но и была разлучена. Устанавливается новое прошлое, а затем запечатывается. Чистота девственности и невинности никогда не может быть восстановлена, и провозглашается новое состояние бытия. Новое бытие опасно, ибо будущее под вопросом. Полученная в результате актов насилия, богохульства или ереси, павшая жертва несет в себе знания и поведение, которые должны быть быстро взяты под контроль и направлены на цели, надлежащим образом соответствующие реинтегрировать жертву в общество и его будущее. Мифы о грехопадении имеют решающее значение для американской культурной жизни, и Эрик Смит (1973:2) совершенно прав, когда говорит, что поощрение рассказывать историю грехопадения так же важно, как и сам миф. Парады, выставки, показательные выступления, свидетельства и исповеди формируют зрелищность.
Хотя эта тема часто встречалась в романах 17-го века, истории о падших женщинах (женщинах, имевших добрачный секс) и “признания травмированных женщин” (Stauffer 1941: 69f) начинают объединяться как жанр с появлением биография в 18 веке. Они были в значительной степени включены в рассказы женщин о других женщинах о том, как сохранить свою репутацию перед лицом мужской агрессии и эксплуатации. В первой половине 19 века появилось несколько романов против соблазнения. Они были частью сенсационного жанра литературы о нравственных реформах, и падшая женщина была связана с причинами воздержания, реформой проституции и другими. Сначала соблазнению подвергались только второстепенные персонажи в рассказах, но позже сама героиня стала центральной фигурой в качестве типа. В более ранних формах, в которых падшая женщина была полностью и навсегда отделена от общества и возможности спасения. Страдание рассматривалось для усиления требований целомудрия и гендерных ролей, а также для развлечения. “Это преступление... кажется, подтачивает и разлагает всю природу. Она теряет самоуважение”, - сказал один священник (Брейс 1872:116). Липпард описал (1845:124) душу падшей женщины в своем раннем романе как “хаос пепла и тлеющего пламени; мрачное небо вверху, выжженная почва внизу и один необъятный горизонт свинцовых облаков, окружающий вселенную запустения.”
Падшая женщина стала опасной женщиной, перейдя от естественного состояния сексуального забвения к бешеной нимфомании. Потому что она опасна, потеряна для общества и для самой себя, а также неподходящий образец для подражания, падшая женщина была убита в большинстве историй — вымышленных или фактических, однако, начиная с конца 18-го века появляется и развивается более полно в 19-м, в котором падшая женщина рассматривается как жертва социальных обстоятельств и заслуживающая “реабилитации”.[5] Жалость к падшей женщине стала направляться на более широкие классы людей как фигура превратились в шифр для решения социальных проблем. К концу Первой мировой войны идея падшей женщины казалась довольно глупой, хотя увещевания к целомудрию продолжала звучать для женщин так же, как в 1980-е и 1990-е годы для молодежи. Сексуально активная или агрессивная женщина 19-го века (произведение в основном авторов-мужчин; Стейвз, 1980) нечасто появлялась всерьез и постепенно, с возрождением разновидностей феминизма начиная с 1920-х годов, утверждала свою легитимность и прославляла свою сексуальность, хотя они были по-прежнему сдерживаемы узами гетеросексуального репродуктивного брака, а иногда и феминистской клеветой. Для обоих полов всех возрастов тело используется для обозначения состояний бытия и взаимоотношений, а также для представления культурных ценностей, стремящихся к космическому значению. Посредством сексуальной активности, насилия и болезней тело служит инициатором суждений о том, что происходит или не происходит с самим собой и обществом, и получает похвалу или осуждение за события и отношение. В случае падения тела, тело - это первое, что подлежит осмотру, демонстрации и оценке.[6] Грехопадение - это, по меньшей мере, трансформация, в худшем случае, полное разрушение. Последствия секса были показаны в виде физических и эмоциональных гротесков на фоне апокалиптических пейзажей. Брейс сравнил значение падшей женщины 19-го века с практикой мужчин
в некоторых восточных общинах, которые гниют и разваливаются на куски из-за своих унизительных и противоестественных преступлений. Когда мы слышим о таких отвратительных преступлениях, мы знаем, что бедствие, разорение и смерть близки к государству и народу. (1872:116)
Ребенку запрещено приходить, но его поощряют плакать. Первое требование к реабилитации и развлечениям - демонстрация слез. Слезы символизируют как страдание, так и очищение. Если извращение педофила физически отражается в оргазме в виде конвульсий, травма для ребенка представлена в конвульсиях плача. Уродство плача отражает ущерб, нанесенный телу и духу. Эксплицитные, навязчиво сфокусированные повествования противопоставлены друг другу, одно фокусируется на гениталиях, другое — на лицо, оба подчеркивают сущность объекта. Уместность определяется плачущими лицами, нейтральные лица списываются на шок или наркотический ступор, улыбающиеся и смеющиеся лица стираются, а выражения оргазма безжалостно наказываются. Согласно старой мелодраматической традиции, слезы персонализируют и подтверждают ценность, смысл и реалистичность. Джон Бойл демонстрирует боль и страдание жертвы в повествованиях, поэзии и искусстве; оставаясь верным религиозным корням этих образов, он сравнил “стенания” “скрытой агонии” с библейскими стихами из книги Иеремии (Boyle 1985). Стратфорд открыла свою книгу предложением, которое начиналось так: “Проливные слезы, которые лились, как проливной дождь...”[7] Патрик Бойл (1994:1) начал свою первую главу словами "Когда мальчик начал плакать...” На самом деле это вариация на тему плачущей жертвы, хотя Бойл использует и это. В его тексте была сцена, в которой 12-летний мальчик рассказывает о своих проблемах доброму лидеру скаутов, позже выяснилось, что это мужчина, который занимался сексом с несколькими мальчиками.
Ницше говорил о “болезненном сладострастии трагедии”, испытываемом скаутами, зрители “тонко вздрагивают” (1966:158). Это удовольствие и есть то, что предлагает зрелище плачущей жертвы. Страданию нужно, чтобы тело подтвердило себя не только страдальцу, но, что более важно, зрителям. Что может быть лучше образа плачущего ребенка, образа, который обездвиживает и замораживает неуравновешенного и трансформирующегося ребенка, предлагая доказательство уязвимости и настаивая на необходимости контроля и присмотра. Каминер цитирует эксперта по восстановлению памяти в восьмидесятых Джой Миллер с семинара, на котором Каминер присутствовал: “Я всегда волнуюсь, когда вижу, как люди плачут. Каждая слезинка приближает нас к выздоровлению. Берегите каждую слезинку” (1992:96). Однако подозрения в благотворности закрадываются, когда слезы, особенно вызванные терапевтическим путем, становятся явными. Слезы “являются тупиком для человечности. Они спасают память о лучшем состоянии — и быстро топят ее”, - заметил Штембергер (1977:184). Но развлечение слишком хорошее, слишком захватывающее, слишком полезное, чтобы от него отказываться. Плач в течение некоторого времени был заменой или прикрытием эротических развлечений на христианском Западе. Говоря о сентиментальности конца 18-го и начала 19-го веков культуры, Фидлер (1966:56) отметил, что “слезы - единственный возможный оргазм” для того времени. Некоторые наблюдатели-геи были особенно чувствительны к этому. Холлеран (1988) проницательно заметил, что сцены плачущих, убитых горем людей, которые так часто и так заметно демонстрируются в выпусках новостей и ток-шоу, на семинарах по восстановлению или пробуждениях, являются для гетеросексуальной культуры функциональным эквивалентом кадров эякуляции в средствах массовой информации о сексе. Уолковиц (Walkowitz, 1992:83, 122) и другие признали, как легко журналистские разоблачения (снятые в виде мелодрамы) превращаются в порнографию, разделяя эту характеристику и культурное значение с риторикой чистоты, филантропическим дискурсом и многими сценариями “Мы против них”.
Радостное увлечение, с которым культура погрязает в пытках и наказаниях тела, основано на самодовольных демонстрациях унижения. Большая часть этого проистекает из религиозных влияний и предположений, что “унижение плоти” (рассказы о подлости) — и связанное с этим утверждение, что “поврежденное или искаженное body...is признак более тонкой, более чувствительной души” (Полсон 1967:239) — необходимы для духовного развития. Для других насилие - это просто наслаждение. Наиболее знакомые трансформации тела в нашей культуре предлагаются через образы болезни или насилия. Старение также ответственно за телесные изменения и обычно связано с образами болезней. Символическая важность ребенка заключается в том, что он свободен как от болезней, так и от возраста (и даже пола). Но другим источником телесной трансмутации является желание, и если страдание может быть источником духовного достижения, то и желание тоже может быть источником. Это опасная возможность, которую отрицают с большой настойчивостью на религиозном Западе. Когда жанры ужасов возродились в 1960-х и 1970-х годах, технический прогресс позволил шире использовать спецэффекты, а меняющиеся тревоги способствовали использованию фундаментальных символов человеческой близости; ребенок и семья, как обычно, были приправлены скрытыми сексуальными фигурами. Ассоциация религиозного ужаса над телом была возобновлена. Подробные исследования пыток, страданий и разложения были воскрешены из христианских традиций (Делюмо 1990:41ff), и возобновили свои навязчивые театральные представления.[8] Смерть была стремлением к этим мучениям; линейная логика привязывала страдания к страшному концу. Падшие, будь то женщины или дети, должны были умереть (после выполнения своих развлекательных функций), чтобы укрепить идеи справедливости и успокоить страхи населения, которому угрожают и которое испытывает отвращение. Рассказы о эпидемиях (включая 1980-е годы, Паника по поводу СПИДа) прекрасно сочетают смерть и болезни в поразительно пошлых эротических панорамах страданий.
Бодрийяр, отмечая, что смерть обрела уютный дом в Америке,[9] увидела здесь “культ тела”, где тело является “объектом неистовой озабоченности, в навязчивый страх неудачи или некачественной работы.” Французский критик посетил эту страну во времена интенсивного осознания важности здоровья, когда любители бега трусцой, рабочие, некурящие и те, кто ест с низким содержанием жира, возвращались к взглядам, похожим на идеал храма тела 19-го века. Стремление к физической чистоте сопровождало движения за моральное очищение 1970-х и 1980-х годов, создавая дополняющие образы здоровья и нормальности в равной степени гимнастические страдания падших и жертв.[10] Атлетизм был также замечен в 1970-х годах, концепция секса как перформанса, сопровождаемая быстрым ростом числа любителей и профессионалов, предлагающих восхитительное разнообразие сексуальных наставлений и восстановление этики и эстетики с помощью терапии и социальной работы. Хотя многие считали конец 1960-х и начало 1970-х годов временем сексуальной вседозволенности, их развитие терапевтической власти заложило основу для более жесткого осуществления кодифицированного институционального контроля в следующем десятилетии, которому был нанесен ощутимый удар в результате ухода женщин и гомосексуалистов из сферы здравоохранения списка клиентов. Зонтаг правильно предположила (1978:56), что это был период расширения концепций и категорий болезней. Воображение и амбиции психиатров продолжали бороться с критикой и отрицанием их перечня, заменяя высмеиваемые и отбракованные болезни новыми улучшенными продуктами, которые расширяли возможности профессиональной работы. Тело, сексуальное и иное, стало объектом демократической озабоченности в 1970-х годах, демократичным в (меньшем) смысле, что человек может делать все, что пожелает, и в (большем) смысле, что институты власти были дополнены расширением профессионального представительства за счет “низшего уровня” и нелицензированных практиков, многие из которых расширили старые процедуры мерчендайзинга.[11] На сцене появились эксперты всех мастей, и они появились с благодарностью, сотрудничая с государством, поскольку оно изменило свои представления о том, что представляет собой здоровье и нормальность. Опираясь на дисциплинарные основы, заложенные в 19 веке, психология, медицина и их подразделения развили генную инженерию, терапию отвращения и контроль поведения, суррогатное материнство и искусственное оплодотворение как свидетельство прогресса организма. Сексология вернулась к биотехнологическим подходам, а академически подготовленные регуляторы перенесли свои моральные принципы в социальную работу и основали множество организаций для борьбы с сексом молодежи со сверстниками и молодежи со взрослыми.
Многое из этого зависело от механизации тела, ставшей возможной благодаря достижениям 17-го и 18-го веков (Розенфилд, 1968; Бриссендент 1974:39). Разум и его эквиваленты духа были вытеснены с появлением науки, это расчленение тела человека и животного. Отказывая животным в душе, для экспериментов и коммерциализации была предложена готовая замена живому человеку. Человеческая телесность стала предметом разработок в области хирургии и медицины, дополненных все более частым копанием в трупах в поисках содержимого, связей, причин и методов лечения. Но для многих тело по-прежнему оставалось вместилищем души. Основанное на прочных традициях религиозной ненависти к телу, сооружение было довольно унылым, если не сказать совсем неряшливым. Более древние христианские традиции рассматривали тело как живое доказательство краткая и бесполезная временная жизнь всех материальных вещей. Тело было не обещанием большего развития, а угрозой вырождения и исчезновения. Христианское презрение к миру и телу нашло свое выражение в повышенном внимании к описательным деталям разложения, начиная со средневековья и заканчивая 18 веком. В стихотворении 13-го века Джакомино де Верона говорится о человеческом теле как ни о чем ином, как о слизи, гное и навозе (Делюмо 1990: 17, 41-46). Готика конца 18 века передавала ощущение тела как разлагающейся и увядающий контейнер, угрожающий в любой момент обнажить и высвободить внутреннюю душу. Готический замок был разрушающейся крепостью, гниющей и находящейся под угрозой из-за внутренних тайн и неконтролируемых сил.[12]
Значительная часть очарования 18-го века была направлена на руины, реальные или сфабрикованные. Возникшие как меланхоличное изображение пасторальных пейзажей в начале века и переросший к концу в ужас и болезненность, интерес к руинам отражал чувства ностальгии, отчаяния по поводу настоящего, националистических надежд и беспокойства за будущее. Торжество природы (имеется в виду уничтожение человеческих устремлений) было обещано в таких сценах. Настроение было драматичным и представлено в большом масштабе. Маколей заметил: “Разрушение всегда преувеличивается; это драма разрушения, постоянно разыгрываемая в человеческом воображении, половина желания которого - созидать, в то время как другая половина разрушает и сровняет с землей” (1953:100). В более широком смысле руины представляют собой вызов господству:
... в то время, когда мы признаем конец своего рода культурной монополии, будь то иллюзорной или реальной, нам угрожает разрушение нашего собственного открытия. Внезапно становится возможным, что есть просто другие, что мы сами являемся “другими” среди других. Всякий смысл и всякая цель исчезли, и становится возможным блуждать по цивилизациям, словно по остаткам и руинам. Все человечество становится воображаемым музеем... (Рикер 1965: 278)
Хотя 18-й век все еще был оплотом ньютоновской физики, закладывалась основа для представления, в котором бесформенность и случайность были решающими ориентирами для просмотра. Руины подчеркивают произвольное, но неизбежное ухудшение состояния окружающей среды, классической формы, и если смотреть с определенных точек зрения, кажется, что она возвещает только потерю, разрушение и окончательный конец сдержанной истории. В конце 20-го века эти настроения возникли снова, выполняя те же культурные функции. Руины в данном случае - жертвы жестокого обращения. Руины, чтобы быть наиболее эффективными, должны были быть зданиями значительного масштаба. Детей выбрасывают в первую очередь как памятники. Невинный ребенок как обобщенный аноним изображений, созданный для того, чтобы передать ощущение прошлого, славного и триумфального в своем религиозной и националистической сплоченности. Чтобы быть надеждой на будущее, они должны быть хранилищами прошлого. Акценты на фундаментах, снаряжении и непрерывности размещены вокруг монументальной статуи Ребенка в качестве декоративных мотивов, подобно тому, как можно увидеть символические атрибуты вокруг статуй воинов на городских площадях. Важной частью памятников является институционализация уважения, послушания и обязательств со стороны всех, кто смотрит на сооружение. Живые статуи считаются надлежащими образцами для подражания, как на детских конкурсах красоты или Мисс Конкурсы для подростков. Их празднуют, награждают, боготворят, распространяют и демонстрируют, сохраняют и оберегают, сакрализуют. Чтобы обеспечить популярность, их также эротизируют.
Начиная с 1970-х годов, существовал ряд природоохранных движений, которые приобрели широкую популярность; в основном они были сосредоточены на городах, хотя с помощью фольклорных проектов сельские культуры также собирались, защищались и пользовались большим уважением. Восстанавливать старые здания и районы, собирать и демонстрировать артефакты, которым всего десять лет, и связывать себя с семейной и этнической историей стало интересным, продуктивным и доставляющим удовольствие времяпрепровождением. Большая часть этой деятельности была вызвана коммерческими и финансовыми интересами, сентиментализацией, увеличением среднего возраста населения и восприятием исторической прерывистости и заброшенности (разделяемыми экологическими движениями). Реставрация требует внимания к истокам, и ребенок - лучшее воплощение этой идеи. Заброшенное (и разрушенное) должно быть не только восстановлено, но и искуплено; “первоначальное” по форме является не только старейшим, но и признаком Первопричины и, следовательно, становится святым. Образы невинного ребенка и травмированного ребенка должны идти рука об руку. Сначала на памятник указывали как на живое напоминание о прошлом, о прошлом, которому угрожает разрушение и отрицание, следующим шагом было показать памятник как объект нападения и намек на то, что должно произойти. Примеры уже были на месте: памятники и статуи древней цивилизации, изношенные, разбитые и расчлененные, заросшие чужеродными наростами, руины. Подобно изображениям в живописи и архитектуре 18 века, панорама страданий детей в панике 1980-х годов была тщательно проработана (или созданна, когда его еще не существовало) в угоду эстетическим и политическим запросам героев того периода. Цель "испорченного ребенка" состояла в том, чтобы вызвать всепроникающую болезненную и сентиментальную реакцию, которая в своем отчаянии послужила бы оправданием реакционной угрозы и мести. Разрушенный ребенок был предложен в качестве доказательства разрушительных последствий политического и сексуального либерализма предыдущего десятилетия, идеального и необходимого представления для тех, кто разочаровался в развитии общества или в своей собственной жизни.
Величайший образ разрушенного ребенка - мертвый ребенок. Одной из причин, по которой так настойчиво утверждалась связь между педофилией и убийством, было то, что это потребовали политического и экономического расширения сберегательных и регулирующих органов и ролей, направленных против детей и семьи. Кеннет Вуден, главный агитатор того периода, предложил этот превосходный текст комитету Конгресса в 1984 году, когда он ходатайствовал о рассмотрении вопроса о “пропавших детях” той эпохи. Это повествование, которое объединило образы ребенка на фоне руин, умело использовало риторику подлости и отвращения и, сознательно или нет, стало хорошей связью с дискурсами о борьбе с загрязнением окружающей среды того времени.
С детьми в Америке обращаются как с мусором. Их насилуют и убивают, их юные тела выбрасывают в пластиковых пакетах, на мусоровозах и оставляют на свалках. ... Как мусор, их выбрасывают в озера, реки и ручьи — нежную древесину жизни. Некоторые из них находят на обочинах дорог, как пустые банки из-под газировки и пива, или раздавленные окурки сигарет, или отбрасывают в сторону, как сломанную мебель в грязных, пустых домах, или разбитые брошенные автомобили в лесистых или болотистых районах. ... Бедные маленькие увядшие цветочки, вырванные из ваз дома и в безопасности родителей, по большей части остаются непогребенными и одинокими в условиях открытости полей... (1985b;55, 57)
Чтобы гарантировать, что требования об усилении надзора, правоприменения и наказания воспринимаются серьезно, с образами страдающего ребенка обычно ассоциируется несколько мотивов. Одним из самых основных является утверждение, что то, что представлено, является “реальной вещью”, что контекст, в который помещено тело страдающего ребенка, на самом деле является абсолютной реальностью. Это все больше и больше становилось результатом совместных усилий развивающихся профессий и практика журналистики с 18 века. Писатели-фантасты использовали оправдания реализма для создания повествований, которые привлекали и мобилизовали симпатические эмоции; журналисты и профессионалы использовали вымышленные методы для создания реальности и ценности своих сюжетов и своего социального отношения к ним. Всегда существовали подозрения в правдивости уравнения между педофилией и убийством, но только в середине 1980-х годов на этой связи стали так энергично настаивать, что некоторые эксперты начали уклоняться от ответа, когда им потребовались доказательства. В таком случае заменой умершему ребенку должен был стать ребенок с постоянной травмой. Если труп нельзя было выставить на всеобщее обозрение, то демонстровали поврежденную психику не откладывая в долгий ящик. Травма была нанесена в виде иммобилизации ребенка, такой же тяжелой, как если бы ребенок был мертв. “Замедленное развитие” - важный подтекст жанра ужасов, усиливающий образы и функции тела и духа, захваченных процессом становления (Фрейзер 1974). Современный терапевт утверждает, что она имеет право проникнуть в суть личнсти или незапоминающееся личности с обещанием раскрыть истинную природу и причину материального и духовного гротеска, который предстает перед нами в поверхностных образах плачущего ребенка или дисфункционального взрослого. Ожидаемое зрелище - это раскрытие внутреннего, невидимого ужаса, точно так же, как это было в 18-м и 19-м веках, когда были выявлены и объяснены причины болезней. Тем не менее, травмированный ребенок не всегда был виден, и часто это приходилось принимать на веру.
Одним из самых поразительных способов, которым страдающее тело ребенка демонстрировалось, использование фотографий секса молодежи и взрослых.[13] В конце 1970-х годов Денсен-Гербер устраивала передвижные слайд-шоу в рамках своих кампаний против ”детского порно" и (Эдвин Миз) Комиссия Генерального прокурора по порнографии 1986 года рассматривала изображения детей и секс, как одну из своих главных достопримечательностей. Дети на слайд-шоу были либо обнаженными, либо почти обнаженными; использование наготы в этих показах служило конкретным политическим целям, опираясь на давние традиции. В западных религиозных традициях обнаженная человеческая фигура сигнализировала о греховности либо как о сексуальности, либо как о смерти; обнаженный ребенок привязался к этим ассоциациям. Ужас перед наготой и, следовательно, перед обещанием или угрозой человеческой сексуальности проистекает из течений мысли в некоторых языческих и еврейских верованиях и из большей части христианства (Дэвис 1957: 172; Майлз 1989). Так было не всегда, и эта вера не была последовательной в основных религиях, но начиная с 16-го века и усиливаясь в 19-м веке на Западе в виде крайнего отвращения, презрение к сексуальному телу служило платформой, с которой популярные и профессиональные дискуссии постоянно менялись.
Также существовала традиция, согласно которой детская нагота рассматривалась как “привлекательность”, отражающая веру в асексуальность детей. Однако, как только поднимается вопрос о возможности сексуального поведения ребенка, беспокойство начинает менять значение наготы. Неприкосновенность частной жизни, скромность, невинность и права собственности родителей начинают выходить на поверхность и определять восприятие демонстрации (и сокрытия) наготы. Обнаженная фигура становится наполненной качествами бессилия, уязвимости и пассивности - последствия более широкого социального применения власти, при котором нагота навязывалась подданным для обозначения неполноценности, изъяна и несостоятельности, а также для проведения ритуалов унижения, наказания и пыток. Быть обнаженным в этом контексте - значит быть объектом принудительной и разрушительной силы. Для взрослых нагота в сексуальных изображениях в основном воспринимается как демоническое поведение, угрожающее и опасное для всех.[14] Для детей, вновь привязанных к концепции асексуальной невинности, нагота в сексуальных изображениях должна была восприниматься как очевидное доказательство жестокого обращения. Фотографии секса, как часть определение “порнографии” превратилось в “фотографии с места преступления”. Лишение ребенка защиты было проявлено в виде отсутствия одежды. Ребенок неизбежно должен стать мучеником. Подобно умирающему ребенку-спасителю конца 19 века, этот образ обладает огромной силой. Полное вовлечение тела, так или иначе, было основным элементом религиозной деятельности, особенно в ритуалах посвящения (Майлз 1989: 44f). Для некоторых на Западе существовали религиозные традиции физического наслаждения и оргазма. Для большинства других это было потакание отвращению или стыду, проявляющимся в слезах или ярости.
Страдающий ребенок поддается как светским, так и сакральным взглядам общества. Травма может быть до некоторой степени смягчена или излечена, а мученик может воскреснуть. Однако религиозный менталитет преобладает даже в светских переводах. Ребенок становится представителем общества и цивилизации в их страданиях и представляет собой обновление старых, менее рациональных символов, над которыми можно работать в лечебных ритуалах. Тело ребенка в 1980-х годах перекликалось со средневековой политической теорией, в которой главная фигура общества (в те дни король) был буквальным воплощением предопределенной богом социальной организации; ребенок был страхом и надеждой будущего, реальной фигурой государства, и государство быстро предприняло шаги, чтобы спасти себя.
IV
Настойчивое требование жертвенности и страданий жертвы изолирует индивида решающим образом. Специфика роли жертвы такова, что индивид должен быть изначально удален из контекстов, которые определяли его как жертву. Постфактум идет лихорадочный поиск “причин”. Линейные линии — это проводится не между реальными элементами, а через характерные точки воображения, которое, в свою очередь, пытается (заново) сконструировать угасающее видение универсальной согласованности, привязанное к Первопричине (Бог, педофил и т.д.). Отклонение или разрушение исследования, отрицание или подавление глубины, сложности и разнообразия, игнорирование противоречий — все это последствия такого редукционизма, при котором буквальное мышление ограничено полярными крайностями. Все состояния бытия, все роли злодея, жертвы и героя обостряются, разделяются и облекаются определенностью и окончательностью. Мифические сюжеты требуют, чтобы жертва перешла от грехопадения к воскрешению, играя роли выздоравливающего и выжившего; герой помогает и направляет мистические силы как спаситель. Рассказы о выживших - это истории о воскрешении, религиозные и светские сказки о чудесах, жанры столь же древние, как человеческий страх. Одно зависит от другого; чем серьезнее падение, тем чудеснее выздоровление; чем грандиознее триумф, тем могущественнее герой. Грязные повествования помогают в этом, создавая фоновую панораму отвратительного запустения. Стиль письма или визуального оформления sleaze неумолим и направлен на то, чтобы вызвать (наряду с отвращением) депрессию, уныние и смирение. Подлость наиболее сильна, когда шансы на спасение (облегчение) отсутствуют или (лучше драматично) бессильны и побеждены. Именно перед лицом этого вызова защитник детей приобретает героические масштабы.
Ребенок, который уже является динамичной фигурой в культуре, одержимой личностным развитием в контексте индивидуалистических ценностей материального успеха, должен быть стабилизирован и переориентирован в структурах (например, семье или государстве) и процессах (например, запланированном развитии), которые могут обеспечить и победить в борьбе за развитие ребенка, определения и пристрастия. Безоговорочно осужденный вместе со взрослым—нарушителем, стигматизированный и испорченный ребенок перенаправляется на восстановительную моральную карьеру, которая восстанавливает приемлемость и определенный авторитет - но только для тех, кто принимает диктат возрождающихся надзирателей. Как только страдающая жертва установлена и изолирована, соблазнительно предлагаются ритуалы социальной интеграции. Спасение, согласно давней христианской американской традиции, требует проведения общинных ритуалов социального примирения. Страдание, особенно публично признанное страдание, предлагает способ превращения унижения в героизм и патриотизм. Спасение - это подчинение силам, которые считаются более могущественными, чем вы сами, и обладающими большей мощью, чем те, которые предлагает злодей, и использование этих сил. Жертвы свидетельствуют об этом и рассказывают об ужасах на тех же правительственных слушаниях, на которых появляются злодеи (например, Эрнандес 1985).
Эти состязания включают в себя борьбу за право претендовать на власть для управления собой и другими и наблюдения за ними. Это администрирование осуществляется в основном посредством распространения и внедрения текстов и изображений, сопровождаемых развлекательными программами спектакль. Защищая ребенка от окружающего мира, который, по сути, ограничивает и предопределяет опыт и знания ребенка, моральная опека великих реформаторских движений 19-го века пыталась привить то, что позже стало рассматриваться как “врожденная” способность отличать правильное от неправильного, и, во-вторых, что не менее важно, чтобы направить ребенка к осознанию бескорыстного морального героизма опекуна. В 19 веке, с которым истерия 1980-х разделяла так много таким образом, падшие женщины должны были в рамках своего спасения свидетельствовать против той жизни, которую они вели, препятствовать любым предположениям о том, что такая жизнь, возможно, имела свои удовольствия и возможности, и объявить о своем возвращении к семейной жизни, на которой настаивали как на условии спасения и исцеления. Точно так же молодежь, которая была сексуально активна, призвана подтвердить травму и уйти в более “подходящие” состояния и отношения. Наблюдение Бодрийяра о том, что В американской культуре существует мания асептики, совершенно верно (1988: 33).
Используются возможности и создаются драмы, которые позволяют захватывающе представить эту космическую борьбу. Опираясь на пуританские корни, американское общество обратилось к личности, чтобы показать и наметить успех и обоснованность этих проблем. Уилкинсон (1983; также Миллер 1939, Морган 1963) выделил ряд факторов, которые способствовали постоянному интересу к исследованиям американского характера, частью которых являются дискурсы о сексуальном насилии над детьми. Эти повествования, основанные на историях личного успеха и неудачи, падения и выздоровления, отражают опасения по поводу пассивности, застоя и уязвимости перед внешней коррупцией. Что еще более важно, они рассказывают о способности индивида (при соответствующей помощи и совете) восстановить моральное состояние самого себя и общества путем признания законности закона, стремления к спасению и готовности развлекать общественность рассказами о личной борьбе. Это часть постоянного стремления Америки к историческому обновлению. Страдающий ребенок становится экспонатом в музее культуры. Согласно Бодрийяру, американская идея музея означает, что
все достойно защиты, бальзамирования, реставрации. Все может получить второе рождение, вечное рождение симулякра. Американцы не только миссионеры, они еще и анабаптисты; пропустив первоначальное крещение, они мечтают крестить все во второй раз и придают ценность только этому последующему таинству, которое, как мы знаем, является повторением первого, но его повторением как чего-то более реального. ... Все анабаптисты - сектанты, а иногда и склонные к насилию. Американцы не исключение из этого правила. Реконструировать ситуацию в их точной форме, чтобы представить их в Судный день, они готовы разрушать и истреблять... (1988:41; курсив в оригинале).
В разгар истерии, связанной с сексуальным насилием, Дэвид Финкельхор сказал: “Люди не приобретают статус, выдумывая истории о сексуальном насилии.”[15] В то историческое время, столкнувшись с огромным количеством накопившихся политических разочарований, возникло отчаянное желание восстановить героя в качестве фигуры, пользующейся доверием. Неверное восприятие Финкельхора, отражающее историческую забывчивость и социологическая наивность, была задумана скорее как отпущение грехов за действия, которые, по мнению профессионалов, они обязаны совершать ради своих пациентов и своей карьеры. Особенно для женщин во времена фрагментированного феминизма и нападок на феминистские достижения, это свидетельство было абсолютно важным. В контексте стремительно развивающейся культуры виктимности того периода страдающее тело и психика были идеальными местами для утверждения и расширения профессиональных устремлений к авторитету, статусу и власти. Как место для того, что Лакер называет “мастерством” (1989: 182, 184, 187f), пострадавшему ребенку была предоставлена возможность самоопределиться для спасения. Более эксплицитные тексты мастерства состоят из рассказов группы поддержки, которые продвигают концепцию личного в соответствующие социальные позиции и направления и вводятся посредством терапевтических ритуалов обращения и преданности.
Менее эксплицитные тексты утверждают господство над объектом дискурса, в котором гуманитарии устанавливают территориальные области и определения субъекта и субъективности. Именно здесь администраторы заявляют, что говорят более полно для своей клиентуры, чем могут предполагать страдающие жертвы и введенные в заблуждение злодеи для себя (Лакер 1989:180). До сих пор лучше всего для этого подходили дети, поскольку предыдущие клиенты в определенные моменты отказывались от заботы и спасения.[16] Заявления о заботе и беспокойстве стали обычным делом, особенно в форме “любящего” ухода за детьми и настойчивых указаний на то, насколько “не ведущими” были допросы, когда необходимо было получить и продемонстрировать “разоблачения”. Такие восклицания любви абсолютно необходимы, чтобы усилить пафос, окружающий жертву, повысить статус спасителя и замаскировать иерархию власти.[17] Это тот вид одомашнивания, о котором говорит Туан:
Привязанность смягчает доминирование, делая его более мягким и приемлемым, но сама привязанность возможна только в отношениях неравенства. Это теплое чувство превосходства, которое человек испытывает по отношению к вещам, о которых он может заботиться и которым покровительствует. Слово "забота" настолько пропитано человечностью, что мы склонны забывать о его почти неизбежной испорченности покровительством и снисходительностью… (1984:5)
Предположение светских профессионалов о том, что они могут лучше говорить о страданиях испытуемых, превышающие страдания самих испытуемых, позволяют им, подобно их предшественникам - анатомам, сначала тщательно препарировать тех, кого они подвергают тщательному изучению. Они уделяют особое внимание деталям таким образом, чтобы проверить механическую конструкцию, которую они создали из своих образцов. Теории развития объединяют тело и психику в линейные маршруты, которые требуют составления расписаний и стигматов, а также бюрократических руководящих принципов управления, столь важных для таких предприятий. Объявляя вне закона демонстрацию, владение и использование того, что называлось “детская порнография”, онтологическая территория ребенка застолблена. Сексуальность и тело снова заявлены как профессиональные сферы. Доступ к знаниям, их использование и определение контролируются. Хотя можно воспринимать слайд-шоу правительственных комиссий как примеры шоу-бизнеса, на самом деле это демонстрация не столько самих материалов, сколько власти безнаказанно обращаться с ними и наслаждаться ими без светского или божественного наказания.[18]
Кроме того, предположение о компетентности и авторитете требует, чтобы результаты таких вивисекций демонстрировались для подтверждения технологического мастерства профессионалов в заявленных областях, для подтверждения существования и реальности зла и его последствий, для подтверждения их интеллектуального и духовного превосходства над широкой аудиторией и над страдающими жертвами, а также для проверьки на преданность профессионалов учреждениям, которые предлагают вознаграждение и безопасность их статусу.[19] Одним из примеров является заявление о позиции, опубликованное Обществом научного изучения секса. Общество, основанное с несколько либеральными взглядами на сексологию, в начале и середине 1980-х годов отказало в поддержке исследователям, подвергшимся наказанию за истерию сексуального насилия. Столкнувшись с растущей криминализацией материалов откровенного сексуального характера, особенно тех, которые включают “несовершеннолетних” лиц, и столкнувшись с растущей критикой профессиональной теории и практики, Заявление должно было согласовать их позицию как исследователей по отношению к государству. В нем не оспариваются основные положения законов или принятие государством власти, а скорее жалуется на то, что полномочия “законных” терапевтов и исследователей в определении, выявлении и лечении “антиобщественного поведения сексуальных преступников ограничены. В тексте, который необычен даже среди ученых своей настойчивой повторяемостью, явным подхалимажем и неприкрытой трусостью, Общество просит “предоставить профессионалам право заниматься своей деятельностью в интересах общего блага и содействия благосостоянию людей”. По их словам, использование того, что они называют “стимулирующими материалами”, необходимо для выявления незаконных желаний и оценки того, насколько успешно они реализуются участниками в их тушении. Слово “законный” употреблено шесть раз в заявлении на полутора страницах, а слова “терапия”, "терапевтический” и “терапевт” употреблены десять раз.[20] “Ориентализм”, проанализированный Саидом (1978; 1985) как место для академических и профессиональных привилегий, а для других - как конструкция внешне доминирующих желаний и инвестиций, можно увидеть на этом прекрасном примере паники по поводу секса между молодежью и взрослыми. Это заявление стало жалкой и смущающей эпитафией некогда прогрессивному обществу.
Демонстрация внутренних и интимных чувств и переживаний жертвы предлагает две вещи. Одна предназначена для самой жертвы и является завышенной инвестицией в положение, предлагаемое культурным контекстом ее статуса и роли. В 1980-х годах слово “выживший” приобрело значение, обычно относящееся к патриотической или религиозной преданности, и утверждения об этой роли стали неотъемлемой частью театральных произведений, которые ее породили. Во-вторых, жертвы на параде предоставляют профессионалу возможность не только проявить общественную благосклонность, но и выразить индивидуальную мораль как научную практику. Принятие морального авторитета позволяет опекуну оценивать своих подопечных и выборочно одобрять или не одобрять их высказывания. Однако, хотя мы должны верить Детям, мы можем быть освобождены от этого, когда они непослушно приводят доказательства, противоречащие убеждениям восстановительной системы. Требование того, что можно назвать “радикальной” чистотой детей, также может быть источником огромного чувства вины, как со стороны детей, которые ощущают экстраординарные ожидания, так и со стороны взрослых, которые (по определению) заявили, что любое знание о грехе само по себе является греховным опытом и авторитет заключается не только в том, чтобы регулировать детей, но и в том, чтобы поддерживать ощущение себя настолько свободным и отстраненным, насколько это возможно, от любых намеков на греховность. Отчасти этим объясняется акцент на “объективных” экспертах. Это часто использовалось против геев и лесбиянок, исследующих однополые отношения.
Борьба страдающей жертвы представляет собой конфликты в системах власти за сохранение определений того, что является и может быть реальным, естественным и аутентичным. Если ребенка можно рассматривать как руину, следует помнить, что руины требуют не просто реставрации, а перепланировки. В конце 18-го века и начале 19-го некоторые руины были сделаны на заказ с нуля, а другие были отремонтированы и укреплены, чтобы оставаться руинами. В 1980-х годах институт “тестов на честность” (в основном связанных с выявлением употребления наркотиков, но также применяющих проверку установок и поведения) был широко распространен. Укрепленная религией 19-го века и терапией 20-го века, забота о реальности и искренности продолжалась с небольшими перерывами до конца 20-го века, и реакция на секс между молодежью и взрослыми была лишь частью этого исторического процесса, осложненная паникой по поводу наркотиков и СПИДа.[21] Невинный ребенок снова стал образцом аутентичности перед лицом сильно ощущаемых вторжений и нападений, особенно на тело ребенка. Не только сексуальные представления, но и вся конструкция фасадов, определяемых рынком вызывает беспокойство как у общественности, так и у ученых.[22]
Апокалиптическое возрождение требовало героизма высшего порядка, точно так же, как подробные описания подлости требуют столь же сильных контраргументов. Зрелища руин и ужасной смерти также содержат тексты о сохранении, справедливости, и воскрешение. Терро заметил, что “несмотря на ужасающие аспекты [белого рабства], оно породило высочайший героизм со стороны тех мужчин и женщин, которые выступали против торговли людьми” (1960:9). Напротив, именно из-за этих самых “ужасающих аспектов” (правдивых или нет) крестоносцы становятся такими героическими и такими занимательными. Некоторое время назад Шредер отметил, что шоковый эффект остается ключевым компонентом проявления морального героизма.[23] Поэтому неудивительно, что, особенно во времена культурных состязаний, героическая деятельность наиболее эффективно проявляется через традиционный жанр и популярные СМИ. Герой представляет собой рестабилизацию моральных ценностей и подтверждение того, что моральный порядок был раньше и скоро снова станет “правильным", потому что образы несовершенной жертвы и чрезмерного злодея автоматически определяют героя в промежуточном, нейтральном положении. Разыгрываемая через ностальгические драмы сентиментальности, криминала и мелодрамы, популярная культура обновляет формы прошлого и наполняет их современным содержанием, позволяя обществу, смотрящему назад, почувствовать, что оно решительно смотрит в будущее. Из-за продвинутой колонизации и потому, что, как говорится, ностальгия уже не та, что раньше, прошлое изобретается заново, а будущее становится историей еще до того, как оно произойдет. Предварительные просмотры предстоящих аттракционов, даже если они отличаются от самого фильма (и в этом реальный риск того, что зрители могут быть разочарованы), заранее определяют значимость постановки. Расширенная колонизация обеспечивает ее постоянную необходимость. Жанры, через которые фильтруются факты и художественная литература, требуют соответствующих постановок конфликта, одни утверждают реальность, другие не заботятся о ней, об их эффективности и потреблении судят исключительно по эстетическим ценностям и осознанию доли рынка. В сочетании с культурной сентиментальностью показы достигают эпических масштабов, зрелища основаны на продуманной рациональной инженерии и забывчивой моральной истерии.
9
ЗРЕЛИЩЕ КАК ГИПЕРРЕАЛЬНОСТЬ
I
Учитывая, что паника по поводу сексуального насилия была продуктом преувеличения и фабрикации, большинство наблюдателей указывают на идиосинкразические аномалии или временное помешательство как на источник ее восприятия. Однако в американской культуре существуют очень старые течения, которые помогли создать истерию. Двумя из них были тенденции к тиражированию и преувеличению. Некоторые европейские критики любили принижать американскую культуру за ее склонность к “гиперреальности”, к искусственному и “более реальному, чем настоящее”, имитируемому артефакту или опыту. Европейские культуры, однако, не могут претендовать на превосходство над американскими репрезентативными удовольствиями, поскольку они уже довольно давно создают свои собственные “гиперреальности”. Евразмус в своей работе начала 16 века, De Copi, поощрял преувеличение и гиперболу, а также создание сходств, а маньеристские методы начала 16-17 веков способствовали подражанию и эксцессам. Американцы давно осознали нашу предрасположенность к риторической и онтологической инфляции. Одним из лучших примеров является "небылица". Сэнфорд считал, что “национальная озабоченность размером, численностью” основана на стремление к “моральному и духовному величию среди народов мира” (1961:111). Хотя формы небылицы существуют и в других культурах, именно в Америке с такой любовью культивируется в основном маскулинный жанр. Небылицы обычно ассоциируются со спорами о границах или неизведанными территориями, и воображение поощряется к упрощению, расширению и искажению, чтобы провести демаркацию и защитить себя от умаления или исчезновения. И, конечно, они забавные.
Многие наблюдатели в первой половине 19-го века испытывали сильное отвращение к преувеличению. Хэзлитт жаловался, что американское воображение приходится “возбуждать перенапряжением” (1829: 126f) - Токвиль говорил, что американские писатели чрезмерно раздувают свое воображение, провозглашая “гигантизм”. Он заметил, что американцы склонны отказываться от “реальности” и создают монстров; он был обескуражен “слишком большим количеством огромных, бессвязных образов, преувеличенных описаний, причудливых эффектов и целой фантастической породой умников, которые заставят человека тосковать по реальному миру”. Токвиль видел созависимые отношения между писателями и читателями; “толпа ничего не ищет...кроме объектов огромных размеров. ... Писатель и публика объединяются в развращении друг друга” (1969: 488f). Рейнольдс цитирует книгу Джона Нила "Рэндольф" (1823), в котором Нил призывал американских писателей создавать рассказы с “яркими и "смешными... преувеличениями"" (1988: 204, курсив в оригинале). Некоторые писатели приходили в отчаяние при мысли о том, что им пришлось создать, чтобы добиться популярности. Мелвилл в середине века ворчал, что публика хочет “больше реальности, чем может показать сама реальная жизнь... природа раскрепощена, возбуждена, по сути преобразована” (1971: 158). По, Эмерсон, Торо, Уитмен и Хоторн сделали аналогичные наблюдения (Рейнольдс 1988:171).
Неудивительно, что подтексты “миф против реальности” так часто встречаются в моральных дискурсах. Это было подкреплено романтизмом, переводимым здесь как сентиментальность. Это тенденция полагаться исключительно на образы, согласованность между которыми зависит не от того, что мы обычно считаем эмпирической или рациональной логикой, а от логики эстетики. Акцент на образности, наряду с технологическим развитием и масштабными социально-экономическими сдвигами в 19 веке, привел к более резкому контрасту между тем, что считалось “реальным”, и тем, что было искусственным. Различия между “естественным” и “неестественным” все чаще и шире применялись шокированными или взволнованными наблюдателями, не в последнюю очередь недавно появившимися профессионалами в области психологии и психиатрии. Критики всех мастей начали беспокоиться не только об искусственном, но и об иллюзорном. Искусственная презентация стала больше, чем просто экспонатом, она расширилась до панорамы. Показы были не просто о чем-то, что произошло, но сами стали событиями. Прошлое и настоящее стали менее далекими, как и “реальности” в них. Хотя они были стабильным развлечением с классических времен, в 19 веке демонстрации экзотики стали еще более популярными, помогая переосмыслить нормальное, естественное и реальное. По мере того как на “реальное” все больше посягало искусственное, ложное или временное, реальное должно было стать идеалом, отделенным до такой степени, что оно казалось недостижимым. Став мифическим, “реальное” стало менее осязаемым, но вездесущим, массово производимым и потребляемым в больших количествах. Реальное было приравнено к настоящему, и с его расширением прошлое было вытеснено и отдалено. Столкнувшись с обесценившимся прошлым и громким и поверхностным настоящим, будущее стало мишенью для охваченной тревогой надежды. Лозунг “Дети - это будущее”, предложенный в качестве своекорыстного жеста благотворительности, по своей сути является вошедшим в поговорку криком о помощи.
В 19 веке утвердились надежные жанры, категории, все еще сохраняющиеся в художественной литературе, искусстве и профессиях. Благодаря жанру популярный факт был поднят на новые высоты эмоций и образов. Расцвет журналистики повлек за собой сосредоточьтесь на сенсационном, необычном и табуированном.[1] Слово ”новости“ фактически стало ассоциироваться с текстами конца 17-го века о незнакомом и сенсационном, а фраза ”странно, но это правда!" стала в то время выражением отношений между институтами информации и развлечений (Hunter 1990:216). Помимо мелодрамы, готика является одной из ведущих форм повествования в Америке, будь то художественная литература или журналистика. Фидлер (1966:134), однако, возлагает на писателя ответственность за жанр, и он продолжает традицию критики Америки, излишество с замечанием, которое должно показаться довольно знакомым врагам эротики; “Преданный вызыванию тошноты, преодолению пределов вкуса и выносливости, готический романист вынужден искать все более и более жестокие преступления, чтобы утолить жажду "слишком многого", на чем он торгует”. Или, как говорили в Техасе во время Двух финансовых бумов 1980-х, “слишком много - это недостаточно!”[2]
Вспоминая “гигантизм” Токвиля, после Первой мировой войны Шпенглер высмеял склонность Америки к преувеличению, называется “гигантизмом” (1926: 1:219, 294f). В 1950-х годах Вагнер выступал против американской популярной культуры, особенно криминального жанра и комиксов, потому что они были “преувеличенными” и “отчаянно нереальными”.(1954:58, 155). В аналогичном ключе многие отмечали тенденцию намеренно заменять “реальность” иллюзиями и зрелищами, будь то для расширения или полного вытеснения ее, тенденцию, действующую с середины 19-го века. Самым известным выражением этого было “псевдособытие” Бурстина: преднамеренное, сконструированное событие с некоторой неопределенной, хотя и не всегда необходимой связью с базовой линией реальности, событие или действующий субъект, отобранные и проработанные информационными институтами, и событие — особенно для потребителя — которое является самореализующимся.[3] Для современных времен именно в последней четверти 17-го века вновь возник высокий интерес к “чудесам” - странному, необъяснимому, таинственному, редкому, катастрофическому и нестабильному. В какой-то мере это было реакцией на возросший акцент рациональной науки, но это также было связано со стимуляцией воображения развивающейся формой романа.[4] Стремление показать представляется общечеловеческим, и культурная поддержка часто оказывается раздута до определенных представлений, особенно там, где предполагается вовлечение эмоций и манипулирование ими. Тенденция преувеличивать значение и воздействие изображений уходит корнями в доисторическую эпоху и является одной из основ сохраняющейся эффективности религиозных верований. Хейзинга (1949:66) некоторое время назад отметил, что идеалам всегда бросает вызов реальность, и чтобы сохранить место силы и авторитета в обществе, образы в определенной степени должны быть расширены как по форме, так и по содержанию. Американский жанр, особенно мелодрама, не был в этом исключением, просто у него это получалось лучше.
Двумя основными американскими источниками гиперреалистичных зрелищ были коммерческие индустрии развлечения и кампании по реформированию. Различия между ними часто были довольно незначительными. Разоблачения являются само собой разумеющимся для тех движений, в которых создатели историй и образов раскрывают действующих лиц и события, считающиеся скрытыми или секретными (подразумевающими подрывную деятельность и преступность), их презентации эмоционально привязаны к определенным субкультурным моральным точкам зрения. Начиная с конца 18-го века, несколько религиозных программ породили обширную риторику и действия по реформированию. Злодеи, жертвы и герои были определены с точки зрения конкретных мировоззрений, которые чувствовали себя уполномоченными кодифицировать теократические цели для отдельных людей и общества в целом. Это не означает, что религия была на одной стороне, а атеизм - на другой. Исторически сложилось так, что в кампаниях по реформированию были смешаны консервативные и либеральные элементы, точно так же, как в 1970-х и 1980-х годах наблюдалось соответствие между частями феминизма и консерватизма в антиэротике и истериях сексуального насилия над детьми.
Термин “истерия” означает не только иррациональность, но и преувеличение, заблуждение, искажение — диспропорции количества и качества. По мере того, как потребители "паники злоупотреблений" уставали от ее развлечений, а сторонники становились смущенными ее исключениями, культура продолжала свой беспокойный и всегда интересный поиск дешевых острых ощущений. Сатанизм, вечно популярный наркоман, садомазохизм и другие второстепенные образы были реинтегрированы в общество как вымысел или факт, причем различие не всегда было четким или важным. Попытки изобразить излишество часто сводятся на нет их собственной увлеченной систематикой и сами становятся чрезмерными, отчасти в попытке адекватно передать их смысл и отчасти потому, что они поддаются силам, которым они приписывают как чрезмерные, то есть его способности подавлять или инкорпорируют. Развлекая в течение разного периода времени, такие зрелища в конечном итоге достигают точки пресыщения, при которой возникают сомнения, скука или нетерпение. В такой момент энергия должна быть направлена на новые постановки и/или рационализацию существующих развлечений.
Спустя столетие после первого появления беспокойства по поводу иллюзии, беспокойство вернулось в 1980-х годах. Пропагандисты сексуальных отношений между взрослыми и молодежью как ужасающей травмы и потрясающее зрелище казалось заброшенным, поскольку внимание ослабевало. Они утверждали, что жестокое обращение с детьми, несмотря на осложнения, квалификации и скандалы, все еще “реально”. Даже после документирования эксплуатации СМИ и юридических промахов Хопкинс настаивал на том, что жестокое обращение с детьми было “реальным и пугающим” (1988). Чувствительный к критике истерии, Лью сказал, что жестокое обращение одновременно реально и “распространено”; в большей степени в его интересах, он также утверждал, что “выздоровление” столь же реально (1990: xvii, 16). Обложка к роману Ваксса 1991 года продвигала его художественную литературу как солидное развлечение: “блестящий, мрачный, наводящий ужас и пожинающий плоды" (курсив в оригинале). В новостной статье, появившейся в конце того периода, был сделан вывод о том, что вместо того, чтобы всегда говорить правду (как это пропагандировалось в 1980-х годах), дети на самом деле могут лгать и / или быть обманутыми интервьюерами. В более позднем номере журнала были опубликованы реакции тех, кто придерживался более ранних взглядов 1980-х годов. Указав на неточности, Векслер пришел к выводу, что “проблема жестокого обращения с детьми серьезна и реальна. Это решения, которые были фальшивыми.”[5] Каминер опасался, что слишком широкие определения жестокого обращения, столь популярное и необходимое среди “выживших” опошлило бы “реальное” насилие (1992: 26f). Лэннинг и другие выразили сожаление по поводу того, что рассказы о сатанинских ритуальных надругательствах отвлекают от “реальной проблемы сексуального насилия над детьми...” (Watters 1991:68).
Утверждения о том, что было “реальным”, а что нет, в 1980-х годах были распространены по всей культуре. Coca-Cola должна была постоянно уверять людей, что это “Настоящая вещь”. Телевизионные рекламные ролики середины десятилетия для программы “Народный суд” гарантировал своим зрителям, что “решения реальны!" Реклама на радио для замороженных соковых батончиков в июне 1986 года, громко воскликнула, что “Они настоящие Реальные Фрукты! Настоящий сок! Действительно вкусно!!” Реклама разливного пива Miller хвасталась, что “Это настолько реально, насколько это возможно!” (3 августа 1988).[6] “Реальность” подразумевает последовательность или единство. В фильме Рональда Рейгана (1988:9), Роджин заметил о том периоде, не совсем неверно, что
Оппозиции, которые традиционно организовывали как социальную жизнь, так и социальную критику, — оппозиции между поверхностью и глубиной, подлинным и неаутентичным, воображаемым и реальным, означающим и означиваемым, похоже, разрушились.
Другой комментатор, как правило, соглашался с исчезновением единой культуры и далее отмечает, что “унитарные дискурсы, конструирующие очень специфические темы, только усилились. Категория субъекта в целом остается весьма жизнеспособной, потому что она никогда не оспаривалась так горячо” (Collins 1987:24). Было сказано, что последовательная американская история была невозможна после 1950-х годов; единое историческое видение превращается во множество версий, каждая из которых отличает реальное от нереального.[7]
С середины 18-го века появилось то, что стало известно как релятивизм продолжало ставить в тупик утверждения об уверенности и единстве. Особенно во второй половине XIX века два элемента последовательно подрывали утверждения, которые ранее считались глубокими и неоспоримыми: вариативность, которая отрицала “универсальные” утверждения, и временность, которая высмеивала “вечные” истины. Борьба в Америке возобновилась с особой яростью после победы Рональда Рейгана в 1980 году. В начале десятилетия консервативные критики начали предвосхищать акценты новой администрации и возрождение авторитарного активизма. Журналист Лэнс Морроу пришел к выводу, что стране “нужен кто-то, обладающий интеллектуальной мощью, чтобы придумать новый миф или возродить старый” (1980:29). Академик Уильям Макнейл предупреждал (1982), что “в отсутствие правдоподобных мифов становится очень трудно импровизировать или поддерживать последовательные общественные действия”. Макнил жаловался, что, когда правильные мифы терпят неудачу, “послушание становится нерегулярным, предсказуемость человеческих действий снижается, а эффективность общественного реагирования на изменяющиеся условия начинает снижаться”. Более конкретно. Морроу чувствовал было “слишком много свободы”, отсутствие дисциплины и слишком большая вовлеченность в “бесконечную социальную распущенность” (1980:4, 29). Свежи в памяти этих двоих были война во Вьетнаме и контр-идеология культурных и политических диссидентов. Не упомянутые, но более влиятельные разоблачения правительственных и журналистских обманов, которые затронули как военных, так и гражданское население; публичное выражение разочарования ветеранами было особенно тяжело воспринять, учитывая традиционные представления о военной преданности.[8] Ницше, писавший в то время, которое могло бы показаться довольно знакомым, заметил,
Что же, следовательно, есть истина? Мобильная армия метафор, метонимий, антропоморфизмов, короче говоря, сумма человеческих отношений, которые поэтически и риторически усилились, преобразились, украсились, и после долгого употребления кажутся нации установленными, каноническими и обязательными к исполнению; истины — это иллюзии, о которых забыли, что они иллюзии… (1964:11:180)
Агрессивная реклама приобрела гораздо более заметное и неприкрытое присутствие в 19 веке, и она начала влиять не только на рынки товаров, но и на идеи и эмоции. Взаимодействие стало преднамеренным и научно просчитанным, а эмоциональные ставки возросли; “Люди были приведены в сильное возбуждение исключительно по договоренности”, - заметил Харрис (1973:25). Вторая половина 19-го века знаменита открытием того, как создавать потребности и установки с помощью маркетинга (Strasser 1989). Для этого требовалась удача, но больше навыка для оценки коммерческих и политических возможностей внутренних эмоций и мыслей. К религиозным и светским представителям конфессий присоединилось множество корпоративных и академических теоретиков и технических специалистов, которые все чаще манипулировали социальными установками. Антропология долгое время считалась богемной из социальных наук, маргинальной по сравнению с более грязными и мирскими проблемами, такими как маркетинговые исследования или актуарная наука, но теперь эта дисциплина способна внести свой вклад в управление деньгами и властью не только путем выяснения символов и значений культуры, но и предсказывая их: “мы работаем над моделями, которые предсказывают будущие символические потребности конкретных целевых аудиторий и то, как они подразумевают определенный продукт, а также маркетинговые стратегии”, - пообещал Хоутон (1992).
Акцент на символах как на сжатых пакетах значений стал более важным, потому что истерия 1980-х годов была также временем почти ошеломляющей информационной экспансии благодаря распространению персональных компьютеров, распространению мелкой прессы (особенно книг и журналов) и объединению индивидуальных компьютерных технологий. и их коллективизация с помощью досок объявлений и онлайн-сервисов. Это было время “деавторизации текста”; ценность “правды” и “реальности” для многих пользователей рухнула, отдав предпочтение изображению и эмоциям. Кабельное телевидение и компьютеры усилили движение к доминированию визуальных эффектов в качестве коммуникативного дискурса. В радиовещательной и печатной журналистике соответственно сократилось количество текста и возросло использование “звуковых фрагментов”. Единственное место, где текст по-прежнему оставался доминирующим, - это профессиональные культуры (хотя и разъедающие по всему миру граничат с возвращением к биологически ориентированной сексологии и инструментарию), а также в фундаменталистских культурах, как светских, так и религиозных.
II
В 1980-е годы произошел ряд сопутствующих событий, которые, наряду с предшественниками в 1960-х и 1970-х годах, помогли определить и поддерживать силу и формы истерии по поводу секса между молодежью и взрослыми. Все они громко и настойчиво рекламировались как фундаментальные кризисы, ужасные угрозы, требующие немедленных и радикальных решений. Короче говоря, это были гиперреалистичные утверждения. Тот период был известен своей одержимостью богатством и обновленной милитаристский пыл. С середины 1970-х годов риторика приобретения и агрессии отражали все более воинственную позицию, пронизывающую многие сферы жизни. Льюис (1991: xiv) назвал это десятилетие десятилетием “финансового терроризма”, но он более точно признал большую приверженность “драме” со стороны те, кто стремится к финансовой выгоде и политическому, религиозному или военному господству. Военные игры оставались главной навязчивой идеей. Рональд Рейган постоянно называл Советский Союз “Империей зла”, утверждая, что они были “естественными” врагами Соединенных Штатов, что они были животными, варварами, преступниками, безумцами, фанатиками и сатанистами.[9] Обвинения были аналогичным образом направлены на гражданские войны и революции в этом полушарии, а также в Европе и Азии. Отмечая, что риторика войны была наиболее интенсивной в середине 1980-х годов, Бомс увидел в ней “обширный каталог дезинформации, дезинсекционизма и сомнительной интерпретации фактов” (1987:41; 34ff), качества, не ограничивающиеся военными вопросами. На внутреннем фронте правое крыло возобновило свою борьбу против либералов, присоединившиеся к левым, которые смеялись над крахом либерализма среднего класса с середины 1960-х годов. “В 1980-е годы наблюдался взрывной рост атакующей политики”, - говорят Пфау и Кенски (1990:13), но метод и тон выходили далеко за рамки обычного демократическо-республиканского фарса.
Основными составляющими воинственности были явные опасения вторжения и господства, паранойя, мало чем отличающаяся от дней Долины смерти в 1950-х годах. На протяжении всего десятилетия часто появлялись изображения вторжения Советского Союза (с привлечением нескольких арабских террористов). Популярные романы подчеркивали апокалиптические видения и “безжалостную личную месть,"[10] боевики присоединились к художественным фильмам о вторжении, пленении и героических спасителях ("Красный рассвет", "Вторжение в США", "Индиана Джонс и Храм судьбы"), а популярный телевизионный мини-сериал показал Америку как пленницу и жертву ("Америка", ABC, февраль, 1987). Рассказы о пленении были широко распространены. Наиболее распространенными и продуманными были те, которые касались похищенных детей, но похожие образы были связаны с националистическими и милитаристскими дискурсами. В мае 1979 года иранцы захватили более 50 заложники, которых удерживали до тех пор, пока Рональд Рейган не вступил в должность в 1981 году. В 1983 году в США Казармы морской пехоты подверглись бомбардировке, в результате чего погибло более 240 человек; два дня спустя на Гренаду вторглись, чтобы “освободить пленников”. Инциденты продолжались в течение следующих нескольких лет, которые в полной мере использовались развлекательными заведениями (Добкин, 1992).
Замечательная книга на эту тему Что делать, когда придут русские: Руководство по выживанию, написанное учеными Конквестом и Уайтом (1984), рисует картину жизни в Соединенных Штатах при советской администрации. Это выбор артефакт 1980-х годов. Положение детей было таким же неоднозначным, как и окружающая паника по поводу сексуального насилия над детьми, достигшая тогда своего апогея. По сценарию, подросткам и малолетним детям будет угрожать опасность быть изнасилованными мародерствующими бандами пьяных солдат. Подростков заставят присоединиться к Пионерам, молодежной группе, где их отправят в “летние лагеря, зараженные идеологией, и проведут различные торжественные церемонии, на которых, например, они окунут свои богато расшитые флаги в память о Ленине и принесут клятвы верности организации и ее целям”. (с. 28, хотя авторы признают, что это очень похоже на американских скаутов). С другой стороны, в результате советского вторжения большинство детей в конечном итоге станут “членами банд беспризорников, живущих своим умом, подлежащих аресту и заключению во взрослые тюрьмы, как только они станут подростками”. Те, кого поместят в государственные сиротские приюты, будут “воспитаны в коммунистических убеждениях и позже, при необходимости, отправлены служить в полицию и другие подразделения” (стр. 36). Здесь, как и в рассказах о жестоком обращении, более темная угроза, исходящая от детей, проступает из более откровенных образов угроз детям. В Америке под властью тирании, нужно быть осторожным, чтобы не сказать ничего такого, что дети “могли бы невинно выболтать перед ненадежными знакомыми или известными агентами режима” (стр. 37, 149f) - все это, как правило, хороший совет, и поскольку большая часть сценария имела непосредственное применение в 1980-х годах в Америке, остряки предположили, что на самом деле это было руководство по выживанию в эпоху Рейгана.
Одним из самых известных рассказов о плене 1980-х годов был "Захваченный в плен Война/Пропавшие без вести" (POW/MIA), который поддерживался на религиозных уровнях в течение многих лет, начиная с войны во Вьетнаме и заканчивая 1990-ми годами. В то время как постоянно доказывалось отсутствие свидетельств о пропавших без вести заложниках, “администрация президента Рональда Рейгана продолжала раздувать проблему”, - сказал Франклин (1992:16). MIA были изображены как заложники, все еще живые, страдающие от невыразимого насилия. Дети пропавших без вести иногда фигурировали в качестве жертв, чтобы вызвать сочувствие и агрессию. Как и данные о пропавших без вести детях и подвергшихся жестокому обращению, цифры о POW/MIA (военнопленных) начали завышаться в начале десятилетия, некритично пропагандируясь средствами массовой информации.[11] Этот вопрос послужил центром процесса “переосмысления”, начавшегося в конце 1970-х годов, в ходе которого негативные образы войны были явно изменены по смыслу и спроецированы на американцев в ряде популярных фильмов. Злодеи были приведены в соответствие с политическими интересами того времени, виктимизация была распространена на целую нацию, которой угрожали изнутри и извне, а героизм подчеркивал фигуры Спасителя и Мстителя, персонаж Джона Рэмбо в исполнении Сильвестра Сталлоне является самым известным.
Одними из наиболее интересных рассказов о пленении в тот период были рассказы о людях, которые чувствовали, что были похищены инопланетянами. Истории о контактах появились в начале 1950-х годов, но, как сообщалось, были безобидными. В конце 1960-х инопланетяне приобретают более зловещий вид, и “контакт” меняется на “похищение”. Психолог из Университета Вайоминга Р. Лео Спринкл начал проводить сеансы гипноза в конце 1960-х годов, продолжавшиеся до 1970-х годов; первая ежегодная конференция для похищенных была проведена в 1980 году. В это время воспоминания, восстановленные под гипнозом, стали более популярными, и сообщения о “пропавшем времени” стали частью жанра. Отличающиеся от рассказов, появлявшихся ранее, истории 1980-х годов представляют собой более личные и эмоциональные рассказы о похищениях людей, в них рассказывается о сексуальном насилии и экспериментах. Эксперты начали рассматривать рассказчиков этих рассказов как травмированных “жертв”. Профессионалы полагали, что воспоминания о событиях были подавлены частично механизмами психологической защиты, а частично таинственными манипуляциями времени и пространства инопланетянами. Расследование и лечение показали гипноз и группы поддержки, и у них возник “синдром после похищения” в 1986, чтобы объяснить поведение и стигматы. Дети впервые появляются в историях 1980-х годов как похищенные, страдающие тяжелой психосексуальной травмой и проявляющие все классические симптомы жестокого обращения. По иронии судьбы, Джейкобс пожаловался на то, что бесчувственные терапевты слишком часто пытаются классифицировать похищение инопланетянами как подавленный опыт сексуального насилия в детстве (1992:251-253, 255, 285), и Мак утверждает, что сообщения о сексуальном насилии над детьми на самом деле маскируют опыт похищения инопланетянами (1994:18). Джейкобс верил, что существует внеземная “программа похищения”, “обширный” космический заговор, который “продолжается двадцать четыре часа в сутки, месяцев за месяцем, год за годом.”[12]
Следствием страхов перед вторжением, нападением или пленением является риторика “обороны”, и 1980-е годы содержали отличные примеры. Франклин (1988) дает хорошее представление о менталитете, который видит внутренние и внешние угрозы на каждом шагу. Безопасность имеет первостепенное значение, как только кто-то постулирует наличие суперврага; супероружие — это обязательный. Образы “неприступной” обороны и покровительства, а также способности “проникать” в тыл врага говорят об энергичной приверженности строгим отношениям между начальником и подчиненным. Такие озабоченности порождают обширные тревоги значительной интенсивности. Франклин видит “сублимированный эротизм” в фетишизме оружия. Рост “сурвивализма”, в основном увлечения правого крыла, также был характерен для 1980-х годов и хорошо вписывался в популярную идею о “выжившем после жестокого обращения”. Похоже на психологические теории того времени, которые поощряли гнев и ненависть по отношению к тем, кто предположительно травмировал кого-то, Франклин видит эквивалент на политическом фронте: “В 1980-х годах самой популярной фантастикой о ядерной войне были фантазии о выживании, смешивающие ярый антикоммунизм, садистскую порнографию и пропаганду ”Звездных войн"" (1988: 211). Для “выживальщика” 1970-х годов врагом был скорее обширный, невидимый набор заговорщических сил, таких как анонимные манипуляторы или волны безликих иммигрантов, хотя многие из них были вполне конкретными, такими как русские, арабы, чернокожие, латиноамериканцы или евреи. Задачей выживальщика было противостоять вторжению и травмам, сохраняя индивидуальную силу.
“Выживший” 1980-х был жертвой постапокалипсиса, обезображенной, шатающейся с выжженной сердцевиной бытия; акцент делался на выздоровлении и конформизме. Тесно связан с этим “Новый воин” из художественной литературы. Обычно мужчина, его раны были менее физическими и более символическими, такими как воспоминания о поражении во Вьетнаме, сопротивлении женщин и гомосексуалистов и продолжающемся ухудшении мирового порядка из-за терроризма, организованной преступности или левого мятежа. Этот тип опирался на классику Американские героические образы (Гибсон, 1994:10ff). Тревога по поводу неминуемой ядерной войны достигла своего апогея в 1980-х годах. Некоторые страхи перед атомным холокостом восходят к началу 20-го века, связываясь с общим недоверием к науке, которое уходит корнями еще дальше, точно так же, как образы в апокалиптических фильмах и романах о выживании 1980-х годов связаны со страхами перед толпами конца 18-го века. Уэрт указывает на тему “выжившие как дикари", тема, которая может быть связана с мотивом злых детей, как в “Повелитель мух” Голдинга, хотя во многих из этих представлений часто присутствовала тема "победы жертвы" (1988: 2l9ff, 408; 224ff). Уэрт делает несколько интересных наблюдений о ядерных страхах, особенно о тех, которые с середины 70-х по середину 80-х годов связаны с тревогой сексуального насилия. Он говорит, что в основе “рассказов о ядерной энергии” лежат три элемента: “огромная запретная тайна; могущественный авторитет, овладевший этой тайной; и устройство, часто олицетворяемое в виде робота или монстра, посредством которого хозяин причинял добро или вред” (1988:55). Наконец, страх перед ядерным заражением достиг больших высот в 1980-х годах, что связано со все еще растущей озабоченностью по поводу загрязнения окружающей среды. Как и в изображениях сексуального насилия, загрязнение этими “неестественными” элементами вызывало личностные и социальные искажения, мутации и разрушения.
Но для многих наблюдателей именно война во Вьетнаме, по-видимому, определила большую часть образов 1980-х. Последствия войны были названы “Наследие”, термин, также используемый для описания предполагаемых последствий секса между взрослыми и молодежью. Многие люди воспринимали глубокое, широко распространенное и долгосрочное разрушение традиционных мифов и икон культуры, чувствуя себя бессильными. Война рекламировалась как испытание воли, и когда она была проиграна, это стало проявлением нервозности, честолюбия и мужества, чего, как опасались, произошло с “цивилизацией” во второй половине 19-го века".[13] В обоих случаях ребенок стал объектом отчаянной попытки обновления. Личное восприятие себя, общества и даже самой “реальности” претерпело значительные изменения в течение 1960-х и 1970-х годов. Шей (1994) видит обострившиеся образы врагов, более всепроникающее чувство заговора, предполагаемое предательство морали и чувство утраты власти, проявившиеся в тот период, элементы, не ограничивающиеся ветеранами. Особенно у тех, кто поссорился, их отношения — как выяснилось в ходе терапии — свидетельствовали о симптомах ухудшения или исчезновения памяти, ненадежности восприятия, разрушении доверия и широко распространенном чувстве бессмысленности. Большинство этих сомнений и тревог были перенесены в сцены секса взрослых и молодежи в 1980-х годах, где враг мог быть непосредственно задействован и уничтожен.
Уоллер считает, что с середины 1970-х годов возникла необходимость найти способ, вызывающий симпатию и правдоподобного героя, который участвовал в четко определенной и единодушно поддерживаемой борьбе, дело, которое приведет к определенным победам. Тот период не хотел повторения пикетов и протестов. Эти желания были подкреплены ситуациями 1970-х и 80-х годов, связанными с захватом заложников, “терроризмом”, поражениями, “противостояниями” и “пустыми победами” (1991:14). Людям нужны были герои, которым они могли бы доверять, что вызывало серьезную озабоченность в то время из-за разоблачений Watergate и Iran-Contra преступлений. Была двойная неудача, которую нельзя было пережить, героя войны, снова разоблаченного как тиран и военный преступник, и политического лидера, снова разоблаченного как некомпетентный и коррумпированный.
Реакция общественности на СПИД в 1980-х годах была в значительной степени основана на характеристиках в средствах массовой информации, а также на риторическом и политическом использовании этой болезни. Популярность статей о болезни резко возросла с момента ее упоминания в начале десятилетия до пика в середине 1983 года, немного снизилась, затем резко возросла с конца 1984 года. Большая часть паники совпала с разгаром эпидемии истерии сексуального насилия в 1983-85 годах (Альберт 1989:43, рис. 3.1; Кинселла 1989; Альтман 1986). Большая часть паники приняла форму травли геев, риторической и физической. Я никогда не забуду аплодисменты, которыми некоторые христиане отмечали каждую смерть от СПИДа, и молчание остального иудео-христианского мира, позволявшего это. Распространенной темой рекламы по борьбе со СПИДом в 1980-х годах была тема, которую использовал Департамент здравоохранения штата Коннектикут через рекламное агентство Mintz and Hoke. Их слоган “СПИД. Никогда не знаешь, у кого это", поразил многих из тех же аккордов можно найти в истерии сексуального насилия по поводу личности и местонахождения педофила.[14] Реклама СПИДа и профилактические программы играли на страхе и чувстве вины и соответствовали другим эротофобским и авторитарным кампаниям десятилетия, в частности Войне с наркотиками. Это негодование по поводу СПИДа, как и сексуальная паника секса молодежью со взрослыми, использовалось для выражения позиций в более широких спорах о сексуальности и сексуальных репрезентациях, которые обострились в 1980-х годах. Феминистки были трагически расколоты печально известной “сексуальной Войной” начала 80-х, многие отступили на догматические и реакционные позиции.[15] Это было время, когда сексуальный статус женщин в целом снова подвергся нападкам с религиозной и политической точек зрения с помощью популярных и академических “надоевших клише”. (Эренрайх, Хесс и Джейкобс 1986: 160, 171ff).
Учитывая возвращение к фундаменталистской религии в 1980-х годах, неудивительно, что реакция на сатанизм также стала весьма заметной. Помимо вклада религиозных менталитетов, определяющих социальные проблемы, весь импульс истерии по поводу сексуального насилия над детьми как со стороны общественности, так и со стороны профессионалов источники облегчили принятие верований в сатанизм. Фактические верования и практики этой христианской субкультуры разнообразны, но явно выраженная оппозиция и наблюдения количественно превышают и качественно искажают реальных практикующих. Жертвы и предполагаемые бывшие приверженцы вышли вперед, чтобы исповедаться и выступить, и требуют немедленного и решительного внимания.[16] Религиозные СМИ, естественно, произвели довольно много работ (Ларсон, 1989, Пуллинг, 1989), но эта точка зрения также пропагандировалась основными издателями (Тени, 1987, Каханер, 1988). В 1988 году, в Специальнвй выпуск Джеральдо Риверы “Поклонение дьяволу: разоблачение подполья сатаны” привлек одну из самых больших аудиторий в истории телевидения.[17] По мере роста внимания в 1980-х годах Сандра Бейкер из Сакраменто, Калифорния, занималась детской сексуальной Программой лечения жестокого обращения предсказывала, что к 1991 году “суды будут верить детям, когда они говорят, что участвуют в сатанинских ритуалах” (Ross 1986c). Пик тревоги пришелся на 1988-1989 годы, и хотя в начале 1990-х еще были очаги личной и организационной приверженности, фантазия была недолговечной. Это не мешает некоторым аспектам сатанизма быть закодированными в законе, и вера не вымирает полностью. Для многих христиан сатана остается основным принципом их религии и политической активности. Желание Бейкера - это стремление к достоверности откровения и неотвратимости наказания.
Существовала, действительно должна была существовать, частая ассоциация сатанизма с другими популярными паниками, такими как “пропавшие дети”, жестокое обращение с детьми или наркотиками. Одним из самых популярных было сенсационное освещение того, что считалось сатанинским культом наркотиков в Матаморосе, Мексика. Почти каждая газета, журнал и телевизионный репортаж о группе некритично пропагандировали точку зрения сатанинского культа. Даже после того, как официальные лица отступили, большинство журналистов проигнорировали это, а также противоположные свидетельства и продолжали информировать свои рынки о том, что убийства были вызваны сатанинскими верованиями.[18] Грин (1991: 241) сказал, что в течение двух недель после публикации в апреле 1989 года, в которой убийства в Матаморосе были названы сатанинскими, начальная школа распространила официальную памятку с предупреждением о похищении детей; затем дети начали сообщать слухи о похищениях, убийствах и нанесении увечий, похожих на (или “согласующихся” с) отчетами, полученными от детей социальными работниками и прокурорами в случаях ритуального насилия. С публикацией четырех “мгновенных” книг спектакль "Матаморос" появился как раз вовремя, чтобы внести свой вклад как в продолжающееся развитие жанров ужасов, так и в к возрождению жанра “настоящее преступление”, названного издательством Pocket Books Иввином Эпплбаумом “самой популярной категорией на сегодняшний день в издательстве массового рынка”. По словам Кэролин Рейли, президента Pocket Books, жанр затронул три популярных убеждения и тревоги. Avon Books; “среди нас есть убийцы”, “деньги не могут скрыть зло или купить счастье” и “есть ли во мне тоже потенциал для этого зла?”, элементы, перекликающиеся с характеристиками секса между взрослыми и молодежью 1980-х годов.[19] В конце десятилетия в нескольких работах были проанализированы документы о сатанизме и опровергнуты свидетельства, указывающие на грубые искажения или фальсификацию фактов.[20]
То, что называлось “рассказами о зверствах” о влиянии новых религий и консервативных евангельских христианских культов, появлялось на протяжении 1970-х годов, и, опиралось на традиционные мотивы, культовые истории заложили существенную тематическую основу для рассказов о сексуальном насилии 1980-х годов. Конкретные обвинения в жестоком обращении с детьми в рамках культов появились в конце 1970-х годов и продолжались до середины 1980-х, когда стали очевидны сомнения в их правдивости, когда люди устали от их повторения и привыкли к их попыткам шокировать, и когда ужасные истории о сексуальном насилии над детьми заменили их обещанием новых и еще более острых ощущений. Шупе и Бромли (1981: 209f) ясно показывают, что СМИ пропагандировали истории о зверствах, потому что темы были хорошо скопированы и потому что репортеры разделяли мировоззрение встревоженных родителей. СМИ перепечатывали сообщения других СМИ как факты и выпускали бесчисленные ток-шоу и документальные фильмы, предположительно доказывающие ужасающее воздействие новых религий на молодежь. Культовые злодеяния сказки имели традиционное и последовательное содержание, включая темы утраты свободы и автономии и опустошения, испытываемого порабощенным индивидом. В первом случае допускалось создание образа злодея, а во втором - жертвы; в обоих случаях, эти истории стали символом более широких социальных и культурных угроз. Культовые истории 1970-х годов отражали глубокую тревогу по поводу либеральных политических и сексуальных идей, выдвинутых в конце 1950-х и 1960-х годах, и конкретно и метафорически касались надругательства над индивидуальными и культурными символами. Разрушение о невинности и устремлениях молодежи, распаде семьи, путанице в самооценках, нападках на патриотизм, законы и сексуальные ценности - все это нашло выражение в рассказах о зверствах новых религий (Бромли, Шупе и Вентимилья, 1979). Истории рассказывались с целью вызвать моральное возмущение и тем самым поощряли карательную реакцию со стороны отдельных лиц и государства. Подобные истории о зверствах были перенесены непосредственно в истерию жестокого обращения с детьми для аналогичных целей, но результаты имели гораздо больший эффект, чем культовые страшилки. Потому что индустрия развлечений усиливала свою интенсивность, “вызывая негативную эмоциональность” (Джонсон, 1989) благодаря особой тактике (деконтекстуализация отношений и отдельных лиц и некритичное признание полного доверия к официальным источникам при одновременном очернении критиков) драконовские меры были приняты без особых жалоб или смущения профессионалами и населением.
Опасения по поводу СПИДа в 1987 году сопровождались открытием первого широко известного компьютерного вируса “Пятница, 13-е”. Страху превращения в машину не помогло осознание того, что идеализированная машина, компьютер, был очень уязвим для случайной невидимой атаки. Опасения, что педофилы могут быть подключены через компьютеры, были в некоторой степени основаны на идее союза двух демонических сил. Домашние компьютеры в начале и середине 1980-х годов переживали экстраординарный период технического развития и расширения рынка. Большие группы населения, особенно офисные работники и менеджеры среднего класса, внезапно столкнулись с непонятными и угрожающими устройствами, бросающими вызов их экономическому статусу и личной компетентности. Также в это время бушевали экономические “чиповые войны” с Японией, усугубляя расизм десятилетия, гневные чувства жертвы и неполноценности, а также сильное негодование по отношению к “чужакам”. Реакция против распространения компьютеров, даже самой идеи компьютера, также связана со страхом и презрением к растущей бюрократизации повседневной жизни, для которой компьютер был в то время символом (и был им с тех пор, как в конце 1950-х и начале 1960-е годов). Более фундаментально, было много опасений по поводу компьютера и его предполагаемой субкультуры гиков и ботаников, мутанты человеческого развития и идентичности, опасения, ярко выраженные в образах связанных с компьютером групп педофилов и того, что они предположительно делали с детьми.[21]
Монстры оставались популярными, но после этого монстр принял другие формы в 1970-х. Основой жанра было то, что Ньюман (1988:39) назвал “одной из старейших Больших страшных идей”: монстр, чье желание сосредоточено непосредственно на теле человека. Кое-что из этого было обычным типом монстра, разрушающего тело, но чаще в 1980-е годы были посвящены теме тела, превращенного в монстра, или его поджанру фильмы и романы[22] о превращении тела в чудовищную машину. Страх превращения тела в машину намного старше периода истерии по поводу сексуальной активности несовершеннолетних, но в конце 1970-х и 1980-х было больше изображений, говорящих об этой озабоченности. Влиятельный фильм 1977 года (Семя демона, от Кунца, 1973) показал компьютер, который начинает мыслить самостоятельно, хочет править миром и — уникальная особенность фильма — насилует и оплодотворяет женщину. Также в конце 1970-х, но более расцвет в 1980-х годах получил жанр научной фантастики киберпанк. Одним из мотивов этой школы была школой женщины-жертвы, которую жестко привязали к механизму по уничтожению (см. Springer 1993), тема, связанная с широко распространенным мотивом мести в текстах о жестоком обращении, феминистских и милитаристских текстах того же периода.
"Человек-машина" имеет дополнительное значение "человек-автомат", неудержимая машина, управляемая либо внешним злым гением, либо темой "машина сходит с ума". Ряд таких фильмов и романов был снят в 1970-х и 1980-х годах; вспомним роман Руссо (1985), в котором детям имплантируют электронные устройства, которые по прихоти внешнего манипулятора делают их сексуальными и убийцами. Одним из самых известных фильмов 1980-х в этом отношении был Терминатор. Сюжет, сосредоточенный вокруг вторжения киборга-убийцы из ближайшего будущего, нес в себе несколько тем того периода. Киборг (Арнольд Шварценеггер) был безжалостной машиной для убийства, и Хороший парень в фильме пытается объяснить неверующей героине: “Он не испытывает жалости, раскаяния или страха. Это не прекратится! НИКОГДА!!”, примерно так тогда характеризовали педофилов. Насилие и разрушения худшего рода почти всегда ассоциируются с этим сценарием. Футуристический мультипликационный человек-машина, Ранксерокс, не стесняется развлекать графическим разрушением, что соответствует многим комиксам того времени. Не случайно его человеческая возлюбленная - молодая девушка-подросток, и иногда их показывают занимающимися сексом вместе (Либераторе и Тамбурини, 1984, 1985).
Тема трансформации тела как выражения утраты непосредственно проявляется в выведении из строя, расчленении или разрушении тела. Изображения повреждений тела или разрушение стало более распространенным явлением и даже ожидаемым элементом жанра после показанной по телевидению войны во Вьетнаме и возросшей популярности графического хоррора примерно в то же время (продолжение периода комиксов EC). 1980-е годы содержат наиболее полное выражение трансформаций тела в американской культуре. В качестве своего рода введения к этому автобиография Рейгана 1965 года была переиздана в 1981 году. Название фильма было взято из того, что, по его мнению, было его вершиной в актерской карьере, реплики, которую он произнес в "Кингз Роу". В фильме у персонажа Рейгана есть свои ноги ампутированы мстительным доктором, отцом девушки, к которой Рейган питал вожделение. Приходя в себя в больнице, Рейган просыпается, смотрит вниз на свой торс и кричит: “Где остальная часть меня?” Используя эту сцену как метафору, Рейган признал, что продолжал стремиться к полноте себя и общества с помощью спорта и политики. Его победа в 1980 году позволила более полному культурному развитию этого замечательного органичного образа.
Одним из наиболее непосредственных проявлений телесных преобразований, которые мы уже видели, были ассоциации тела и его желаний с едой. Еда как означающее претерпела несколько изменений в течение этого периода. Ее основной функцией было служить индикатором и мерой домашней жизни. Приготовленные в соответствии с давними традициями гендерных ролей и употребляемые в тесной семейной обстановке, функции организма по поглощению и даже выпуску были связаны с интимными личными и семейными отношениями. Однако в 1950-х годах “фастфуд” начал вытеснять эти отношения и их значение в разных направлениях. Питание вне дома (и “на вынос”) стало гораздо более распространенным среди семей и в качестве вспомогательного средства для тех, кто хочет остаться одиноким или бездетным; семьи с одним родителем чаще использовали этот вариант для поддержания своего стиля семейной жизни. Проблемы с питанием отражали как сомнения в “реальности” новых продуктов, так и контекст, в котором их употребляли. Кроме того, в конце 1970-х годов около 10% домов имели микроволновые печи, но к 1994 году они были по меньшей мере у 80%. Пища при ее приготовлении и потреблении как признаки здоровья людей и учреждений быстро трансформировалось. Еда как символ трансформации или извращения функций организма нашла выражение в различных жанрах ужасов и комедий (главным образом, благодаря появлению “брызг” и показу рвоты и других выделений), а также в тревогах конца 1980-х годов по поводу булимии и анорексии, рассматриваемых некоторыми как прямой результат сексуального насилия над детьми.[23] В дополнение к использованию пищевых метафор для обозначения нормальности/ненормальности, ассоциация с настойчивыми телесными потребностями помогла связать сексуальные желания с редукционизмом биологических диктат, которые управляют поведением.
Необходимость регулярного питания и выделения, а также беспокойство по поводу их нерегулярности добавили поддержки использованию формул, которые мы видели ранее, таких как “x происходит каждые y минут”. По-своему они являются частью темы трансформации тела, поскольку “х”, которое, как предполагается, происходит с людьми, - это событие физической трансформации, либо с другим изуродованным монстром, либо со смертью. Это была трансформация из одной личности в другую, меньшее или даже не личность. Популярные проблемы зависимости, обращения и коррупции - все это были трансформации это имело корни в уязвимом теле. “Расстройство множественной личности” было напрямую связано с паникой по поводу жестокого обращения, поскольку большинство верующих рассматривали секс в детстве как причину MPD. Личность может трансформироваться во множество личностей, и некоторые из этих личностей (по мнению нескольких профессионалов) могут даже быть другими. Для дальнейшего развития образа некоторые авторитетные специалисты полагали, что индивидуумы (обычно женщины) с MPD могут даже “создавать биологически отдельные личности.[24]
Одной из разновидностей жанра трансформации тела была та, что касалась возраста. Было несколько фильмов, в которых подросток входил в тело взрослого и наоборот, большинство из которых появились в конце 1980-х. "Наоборот" - так назывались два фильма; другие были похожи на "Отца". Как Son, и более известные Freaky Friday и Big. Они предоставили несколько возможностей посмеяться над сексуальными знаниями и поведением, особенно классическими (в основном мужскими). Если-Я-тогда-знал-только-то-что-знаю-сейчас, фантазия. Соединяя с “внутренним ребенком” теория и теология “рожденного свыше” того времени, идея была напоминанием о 19 веке ребенке-спасителе. Ребенок в теле взрослого смог выражать моральные истины и действовать в соответствии с ними, чтобы противостоять окружающему коррумпированному взрослому обществу и исправлять его. Телесные трансформации, как и поведение педофилов, были выражены в речи и образах взрыва и извержения, обращения вспять разрушающегося разложения. Сцена в "Чужом" - классика такого рода, повторенная в ремейке "Нечто".[25] Слизистый паразит, вырывающийся из туловища хозяина и летящий на лицо зрителю, был показан в фильме "Они пришли изнутри" (1975), это также включало в себя ряд тем, которые получили более полное выражение в следующем десятилетии. В этом фильме современный жилой комплекс в стиле хай-тек рекламируется как утопия, но в результате экспериментов безумных ученых люди в комплексе заражаются червеобразным паразитом, который действует как афродизиак. Культурные табу отброшены в сторону, поскольку арендаторы начинают трахать что угодно и кого угодно, включая стариков, нападающих на школьниц. Дети также подвергаются сексуализации. В одной сцене мужчина, удерживаемый толпой, и девочка-подросток, склонившаяся над ним, целует его с ее измазанный кровью ртом, эпизодическая роль нашей старой знакомой, демонической Лолиты. Убегая со своим начальником-врачом, молодая медсестра с очень детским лицом заражается. Она говорит своему спутнику, что ей приснился сон, в котором она занималась любовью со старым и умирающим мужчиной, который говорит ей, что “все эротично”, что “даже старая плоть - это эротическая плоть” и что “болезнь - это любовь двух чуждых друг другу существ."[26]
В рамках общего возрождения традиционного повествовательного жанра в 1970-х годах произошлозначительное возрождение историй ужасов. Однако было несколько крупных тематические сдвиги, которые помогли в 1980-х годах сформировать популярные и профессиональные представления о сексе между взрослыми и молодежью как части новых жанров ужасов. Одним из них было ослабление связей с научной фантастикой, которые доминировали в фильмах ужасов 1950-х годов, пропорционально усилению акцента на человеческих внутренностях и оккультизме, включая широко распространенную в 1980-х веру в то, что сверхъестественное зло существует в повсеместных масштабах (Magistrade 1988:16); отчасти этому способствовала возобновившаяся популярность о готике в 1970-х годах. Эта формула играла на тревогах, необходимых к жизни конца 1970-х и 1980-х годов, таким как чувство вины и отчаяния из-за политических ситуаций, беспокойство по поводу будущего и разрушенные границы гендера, половой принадлежности и власти, ведущие к глубокому недоверию к себе и другим. Повествовательное использование непредсказуемого и непознаваемого соответствует как жанру, так и десятилетию. Окруженный страхами прошлого, настоящего и будущего, ужас является сутью жизни в готике (Уилт 1980:5).
Наряду с акцентом на внутренний хоррор появился акцент на “повседневном” существовании. Жертва стала еще более уязвимой для нападений со стороны обычных на вид (“невинных”) объектов и людей. Было два подхода к этому, оба из какой-то традиции. Один - невинный уязвимый человек, который вопреки здравому смыслу (и крикам из зала) отправляется исследовать и попадает в реальность зла; это старый готический прием, но тот, который заключает невинных или сексуально озабоченных в ловушку, делая акцент на дикости и жажде крови злобного монстра. Более приземленный внешний вид обещал более демонический и занимательный интерьер, как только он выйдет на свободу. Уходя корнями в начало 1960-х, кое-что из этого присутствовало в фильмах ужасов 1970-х, но внутренняя сосредоточенность и уменьшение причинно-следственных связей были скорее характерны для 80-х. Логичными и естественными объектами для этого нового хоррора стали интерьеры отдельных людей и семьи, часто символизируемые тем, что Соломон называет темой “вторжения в дом”. В каждом случае мишенью становится наиболее уязвимый член семьи, а дети - любопытный ребенок 1980-х. Другим было внимание, а не приглашение на роль. Точкой опоры стал мотив потери невинности, который в производстве фильмов ужасов или в более сложных сюжетах дети часто могут быть как агрессором, так и объектом нападения. При обсуждении готического возрождения, Уилт предвосхитил образы истерии сексуального насилия над детьми, заметив, что одна из причин, по которой готика, казалось, вновь обрела популярность, заключалась в “демонических энергиях” между взрослыми и детьми в рассказах: “Кажется, проблема в какой-то глубокой борьбе за контроль над источниками самого бытия, в какой-то борьбе родителей, чтобы уничтожить или повторно поглотить ребенка и таким образом остановить время, сохранить власть, взять вернуть свободу и жизнь там, где они были непреднамеренно отданы” (1980:12).
С ростом популярности ужаса как мировоззрения в 1970-х и 80-х годах было тесно связано возобновление интереса к ценности страха - для детей. С одной стороны, проявлялся огромный интерес к воздействию насилия на чувствительность детей, но другая сторона выступала за желательность обучения детей с помощью так называемых методов “возбуждения страха”. Одним из наиболее известных защитников был психиатр Бруно Беттельхайм, который считал, что волшебные истории, в том числе о жестокой природе с ужасающими монстрами хороша для детей (1976: 116ff). В колониальной Америке пуританским детям угрожали смертью с самых юных лет, что в значительной степени было результатом тревог и зависти взрослых. Сэмюэл Уэйкман сказал в 1673 году, что дети “вынашивают и ведут себя так, как будто воображают, что их горячая кровь, крепкие тела, активность, красота будут длиться вечно” (Стэннард 1977:65). Стэннард говорит, что для тех немногих отважных детей, которые отказались принять страхи в свою психику, взрослый мир считал, что “неспособность испугаться была верным признаком того, что человек либо духовно потерян, либо глуп, либо и то и другое вместе” (1977:70), аналогично убеждению три столетия спустя, что дети, которые терпят неудачу или отказываются принять ярлык жертвы, психологически повреждены еще больше, чем первоначально надеялись эксперты. Многие другие считали "страх для детей" полезным и развлекательным жанром. В 1984 году эти строки были удалены из “Песни о монстрах”, которую пели в телевизионной программе. Улица Сезам после жалобы:
Если я подружусь с дружелюбным монстром.
Я позволю ему покачать меня у себя на колене.
Я позволю ему делать все, что он захочет.
Особенно если он крупнее меня.
Эти строки противоречили взглядам на борьбу с жестоким обращением, как объяснила одна мать: дети “не обязаны делать все, что от них хочет большой человек, или позволять большому человеку делать все, что он хочет, если это доставляет ребенку дискомфорт” (Anonymous 1984f). Участники детского телевизионного семинара объяснили, что текст будет рассказывать, детям не нужно бояться фантастических монстров.[27] В 1985 году Джоан Кан выпустила книгу страшилок для людей в возрасте от 12 лет и старше и рассказала читателю, что
В окружающем вас мире есть много вещей, с которыми вы должны справиться осторожно, например, динамитную шашку с горящим фитилем. ..и даже истеричного взрослого, которому вы не нравитесь. ... Вот подборка некоторых потенциально действительно пугающих историй, которые, я думаю и надеюсь, заставят вас понервничать... (1985;xi)
Хотя многим кажется вполне приемлемым — желательным — вызывать испуг (определенное телесное ощущение и психическое предрасположение) у детей, сексуальное возбуждение их, будь то физически, с помощью текста или изображения, является незаконным и карается длительными сроками тюремного заключения, психологическим перевоспитанием и перепрограммированием поведения. Я процитирую из книги Кана не только из-за их предполагаемых ужасных качеств (которые обычно означают насилие), но и из-за их сексуальной тематики, не упомянутой редактором. В фильме “Месть ведьмы” (У. Б. Сибрук, 1930) рассказывается о ведьме, которая накладывает проклятие на молодых людей, влюбляющихся в ее внучку. Есть приятный намек на садомазохистский секс, когда спаситель героини замечает странное приспособление в подвале ведьмы:
Это была колыбель ведьмы. И в ремнях было что-то такое, что заставило меня задуматься...
[Внучка ведьмы] увидела, что я изучаю его, и вздрогнула.
“Ma’m’selle, — сказал я, - возможно ли...?“
“Да, - ответила она, опустив голову, - с тех пор, как вы здесь, скрывать больше нечего. Но это всегда было с моей стороны против моей воли” (стр. 19)
В “Сказке о мальчике-моряке” (Исаак Динесен) есть мальчик, который спасает птицу, запутавшуюся в корабельном такелаже. Позже мальчик встречает 13-летнюю девочку и предлагает ей апельсин, за который хочет поцеловать. Она не хочет его целовать, но хочет встретиться с ним позже. По пути на встречу с ней мальчика задерживает русский, который напивается, хватает мальчика, “лапает его”, дарит ему подарок и целует в обе щеки с “медвежьей нежностью”. Он уходит от русского, но позже натыкается на него; русский снова хватает мальчика, обещая ему хорошо провести время. Но “Отвратительное ощущение тепла мужского тела и массивности мужчины рядом с ним, вывели худощавого мальчика из себя” (стр. 67). Мальчик убивает русского и убегает. Его прячет старуха, которая оказывается птицей, которую он спас ранее; мальчики убегают, и старуха предсказывает хорошую жизнь для мальчика. Нет никаких указаний на виновность в убийстве, и эта история, первоначально написанная в 1942 году, довольно хорошо перекликалась с избиением геев в середине 1980-х годов и этика оправданного убийства за плохое прикосновение.
В “Партнере по танцам” (Джером К. Джером, без даты) мужчина создает механического партнера для танцев для молодых женщин, которые хотят, чтобы у него не было недостатков. Он берет его с собой на танцы и дарит “яркой, дерзкой маленькой девочке, любящей порезвиться”. Машина, конечно, выходит из-под контроля и убивает девочку. Мужчина не наказан. “Дерзкий” ребенок 1980-х, который, возможно, “любит порезвиться”, снова предупрежден. С соответствующим сообщением “История старой няни” (автор “Миссис Гаскелл”, без даты) — это Готическая история о незаконнорожденном ребенке, мать которого была убита призраком. Последняя фраза, произнесенная умирающей женщиной, повторяется дважды: “Увы! увы! то, что сделано в юности, с возрастом не исправишь!”[28] Несколько лет спустя был выпущен сборник рассказов ужасов, не предназначенный для детей, но использующий их в качестве главных героев. Было некоторое беспокойство по поводу этого начинания. Когда в 1986 году Грэму Мастерсону впервые пришла в голову идея создания историй ужасов с участием детей, он счел ее немного “извращенной”. Его коллекция рассказов о детских переживаниях была собрана в соответствии со строгой редакционной политикой; “нет детей на растерзание”. Далее говорилось, что прибыль от книги пойдет “непосредственно детям, которые в ней нуждаются”. В книге нет ничего конкретного, но Мастерсон сказал, что разговаривал с директорами “нескольких детских благотворительных организаций”. (1989: xi). Мастерсон, как известный и способный писатель ужасов, безусловно, пытался направить свои усилия на борьбу со злом жестокого обращения с детьми, каким оно было представлено в середине 1980-х.
Были ли дети на самом деле напуганы в рассматриваемый нами период? Популярная пресса сообщила в 1977 году о национальном опросе, проведенном для Фонда по Развитию ребенка психологом Николасом Зиллом из Темплского университета. Двадцать пять процентов из 2258 опрошенных заявили, что боятся играть на улице, опасаясь нападения (40% подвергались домогательствам со стороны детей постарше или взрослых), а 66% боялись, что кто-то силой ворвется в их дома и причинит им вред. Было также обнаружено, что телезрители в два раза чаще испытывали страх, чем те, кто не был великим телезрителем (Anonymous 1977d). Опрос Роупера, проведенный в марте 1986 года (Kraizer, et. al., 1988), показал, что 76% опрошенных детей боялись похищения. Хотя исследования были безответственно незначительными и непоследовательными, есть свидетельства того, что молодежь 1980-х годов отличалась значительным уровнем тревожности. Крики против сексуальных сообщений в популярной культуре довольно эффективно отвлекали от сообщений о страхе и насилии, порождаемых всеми секторами культуры. Было несколько рассказов о детских травмах, полученных от массовой культуры, будь то истории ужасов или нет. Просматривая жанровую фантастику, Кавелти вспомнил эффект от просмотра комедийного фильма ужасов:
Я до сих пор помню ужас, который испытал в детстве, когда увидел фильм ужасов, зомби мечутся по экрану в фильме Боба Хоупа "Призрак Разрушитель." По иронии судьбы, это был совершенно неуместный ответ, поскольку в изображении было полно комедийных преувеличений, но я был слишком незнаком с такого рода формулами, чтобы знать это, и я был напуган в течение нескольких месяцев. Что меня действительно напугало, так это то, что я наполовину убедился в реальности монстра, не в приятном смысле отстраненной веры, а в ужасной путанице фантазии и реальности, которая заставляла меня заглядывать за двери, бояться теней и даже бояться ходить в кино.[29]
Существует множество дополнительных свидетельств того, что 1980-е годы были “гиперреальным” временем. В контексте, который порочил плюрализм, стремление к еще большему разнообразию и вытекающей из этого сенсорной и интеллектуальной стимуляции, явный цинизм и воинственность, а также изменение стилей народного выражения - все это способствовало возникновению восхищения одержимостью и чрезмерностью; наиболее поразительной частью этого была героизация массовых убийц, написанных некоторыми писателями, художниками и музыкантами.[30] Чтобы в полной мере оценить десятилетие, нам нужно было бы рассмотреть 1980-е годы не через драматургию, как это было для критиков 1960-х; не через ситуационизм, как это было для политически проницательных 1970-х; а скорее как карикатура; фигуры и пейзажи, нарисованные крупными контурами вокруг основных цветов на плоской поверхности, заставляют двигаться и говорить не их собственные агентства, сохраняя при этом величественные позы, но при этом оставаясь неподвижными. Апокалиптическое изречение, которое должно было быть произнесено торжественно, властно и окончательно, прозвучало лишь как повторяющаяся болтовня и заикание, капли пота выступили на глазах от волнения, разочарования, гнев и страх. “Конец близок” превратилось в “Вот и все, ребята!”
10
КРИТИКА И НАСТОЙЧИВОСТЬ
I
В мае 1993 года пара телевизионных программ необычайно критически рассмотрела несколько судебных процессов о сексуальном насилии. Эрин Мориарти из программы CBS “48 часов”, наконец, заметив сомнение в показаниях детей и наличие преднамеренного инструктажа, заметила, что "десять лет назад никто не задавал этого вопроса".[1] Это ложное заявление было необходимо, чтобы оправдать журналистскую практику прошлого, создать впечатление, что шоу было первым, кто раскрыл правду и продолжает заставлять замолчать критиков и стирать данные, доступные десятилетиями.
Официальные заявления о сексе между взрослыми и молодежью впервые были оспорены в конце 1970-х годов почти исключительно в мужском сообществе геев, лучшие выражения были опубликованы в бостонском издании Gay Community News, распространяемом по всей стране, и канадском The Body Politic.[2] В течение следующих десяти лет или около того этот вопрос был поднят более широко, хотя все еще небольшим политическим сообществом, затем передан широкой популярной аудитории, отфильтрованной через их собственные средства массовой информации и профессиональные интересы. К концу 1970-х годов критика со стороны активистов, в основном левых, касалась вопросов личного поведения, культурные значения, права и свободы личности и социальная справедливость. Популярные СМИ либо игнорировали, либо отрицали эту критику, и я не знаю ни одного случая, когда какая-либо критика активистов была признана основными СМИ с конца 1970-х по конец 1980-х годов. В начале 1990-х годов эти проблемы энергично обсуждались на страницах журнала Anarchy с вдумчивыми статьями "за" и "против", но теперь от анархистов исходят обычные угрозы убийством. Две важные статьи Пэта Калифии (1980a, 1980b) привели к культурному и политические элементы привлекли внимание многих геев и лесбиянок. Эффективно опровергая профессиональные утверждения, она оставалась острым и проницательным критиком истерии. Книга Торстада “Любовь мужчины и мальчика и феминизм” (1981; также 1979) представляет собой образец проблем, которые будут возникать в течение следующего десятилетия. Статьи Калифии и Торстада содержат данные и анализы, которые еще долгие годы не появятся в основной прессе, да и то лишь в робкой, поверхностной и сильно суженной форме.
Было предпринято несколько профессиональных попыток противостоять панической реакции на секс между молодежью и взрослыми, но с начала 1980-х и до конца десятилетия критики подвергались резкой критике, стигматизации и подавлению; некоторые были арестованы. Как всегда, политики оппортунистически придерживались идеологий, которые воспринимались как карьерно эффективные; ужасные законы, продвигаемые истеричными личностями, основанные на искаженных или сфабрикованных доказательствах, были приняты практически без возражений. Письмо Сенатору Алану Крэнстону (D-CA) было разослано, в котором Крэнстон высоко оценил свои собственные усилия в борьбе с педофилами. Те, кто написал ему в знак протеста либо не получили ответа, либо формальное письмо с благодарностью за поддержку. Аналогичным образом активист и ученый Джеральд Джонс оспорил заявления в поддержку находящегося на рассмотрении калифорнийского законопроекта и получил в ответ только формальное письмо, в котором предполагалось, что Джонс был сторонником. Письмо Джона Дулиттла (R-Roseville) содержало стандартные клише, и Джонс опроверг их в кратком и членораздельном ответе. Джонс пытался привлечь внимание средств массовой информации к использованию фальсификаций для содействия принятию законопроекта и к связанным с этим конституционным вопросам, но ответа не последовало.[3]
Критическое восприятие в тот период было последовательным. “Истерия” была единственным наиболее часто используемым термином: “шумиха и истерия”, - сказал Эльшлейн (1985), и “национальная истерия... вирулентна и заразна, как азиатский грипп”, - сказал Рабинович (1990:52, 54). Этот термин является социальной конвенцией для обозначения любого вида подобного массового поведения и часто использовался ранее.[4] Кинси и его коллеги выразили обеспокоенность “нынешней истерией по поводу сексуальных преступников” (Kinsey, et. al. 1953: 121; Полленс 1938:10, 17; Гебхард 1965а, б). Многие уточняли, говоря, что истерия была “войной против детей”, где не один человек не в безопасности” (Векслер 1985:19, название статьи); “замена серьезной политики” и “имитация проявления гражданской добродетели” (TRB 1985:42); “царство террора”, паника, которой руководят “фанатики” (Карлсон 1985); “своеобразный американский феномен — быстрая трансформация подлинной социальной озабоченности в моду СМИ и политическую проблему, а также “кризис доверия;”[5] “ярость” (Бешаров 1986:19); и почти психотическая тревога (Берсани 1988:215). Называя это “эпохой суда по обвинению” и “национальной патологией”, Рабинович (1990: 53, 58, 60) сообщал, что бывшие друзья и коллеги обвиняемых боялись проявить поддержку, отмежевывались от обвиняемых или ополчались на них.[6] Это был период, когда клевета, выраженная в профессиональном словаре, воспринималась как неопровержимое доказательство, а обвинительный акт или арест - как свершившийся приговор.
В то время как другие были более мягки в своей критике, просто предостерегая от огульных обобщений или неправильного использования статистики, все настаивали на том, что педофил по-прежнему является законным злодеем и что проблема реальна”. Самый стандартная риторическая тактика, использованная для того, чтобы заставить критика признать себя членом лояльной оппозиции, заключалась в том, чтобы подтвердить осуждение любого секса между молодежью и взрослыми. Кирп (1985:34) сказал: “Когда детей превращают в объекты сексуального удовольствия взрослых, виновных следует сажать за решетку на очень долгое время. Но... ситуация полностью вышла из-под контроля”. Обозреватель TRB утверждал, что проблема жестокого обращения с детьми не имеет “конкурирующих ценностей, [которые] необходимо взвесить”, потому что все согласны с этим вопросом.[7] Барри твердо заявил, что “Ни один ответственный человек не должен думать, что детей следует склонять к сексуальным отношениям. Не говоря о том, что такие отношения неприемлемы в рамках нравов нашей культуры и нашего времени” (1992:22). Обстоятельная критика Хиксом ажиотажа вокруг сатанизма не позволила ему рассмотреть проблему в целом. Он, по-видимому, полностью поддерживал охоту на “настоящих” педофилов и жестокое обращение с ними, проводимую “надлежащими” и “обученными” властями. “Сатанинское насилие” было “неподобающим” концептуальным развитием благородного в остальном начинания. Уровень враждебности должен оставаться высоким и изменчивым, но их следует лучше использовать: “Общественный гнев по поводу обвинений в организации дневного ухода... не должен распространяться на судебные преследования за жестокое обращение с детьми, которые не имеют Сатанинский оттенок” (1991a: 185); критика не должна применяться к выявлению и судебному преследованию за то, что он назвал “разновидностью садового” сексуального насилия. Аналогичным образом, Виктор сказал, что полиция и социальные работники должны руководствоваться только “многочисленными” исследованиями о “сексуальном растлении” и не отвлекаться на обвинения в сатанизме (1993: 299). Несмотря на гневную критику “восстановленных воспоминаний”, Офши и Уоттерс верили о том, что секс между взрослыми и молодежью недооценивается и наносит большой ущерб. Любой контакт с педофилом “неуместен”, и они были “справедливо шокированы всеми видами сексуального насилия над детьми”, утверждая, что “общество по понятным причинам требует единообразного осуждения” (стр. 28, 31f). Они пускаются в обычные сетования по поводу того, что реальное жестокое обращение с детьми игнорируется в ходе полемики и так долго игнорировалось, хотя предположительно это было известно профессионалам и “любому, у кого есть здравое понимание человеческих отклонений.”[8] Критики ни разу не признали факт профессиональных споров по поводу педофилии, а также они не признавали известный диапазон отношений между взрослыми и молодежью и искажения в современных исследованиях.[9]
Более ранние протесты указывали на то, что в большинстве случаев жестокое обращение с детьми происходит из-за отсутствия заботы, физического или эмоционального внимания. Признавая, что средства массовой информации унесли проблему в сторону, Кац (1984) признал профессиональную вину в случившемся: “Мы думали, что сможем донести до общественности, что сексуальное насилие - это реальная, трагическая проблема”, - сказал он. Используя клише более точно, чем он предполагал, он опасался, что “мы, возможно, создали монстра”. Кац также использовал другое из наиболее распространенных описаний того периода - “охота на ведьм”; Гарднер использовал эту фразу в названии своей книги (1991). Векслер (1985) указали, что людей поощряли сообщать властям о подозреваемых педофилах, а Эберле и Эберле (1986: 129f) процитировали женщину, которая сказала, что ее местная газета предложила приз тому, кто сможет выдать больше всего растлителей малолетних. Одно из первых критических замечаний, появившихся в отношении массовых рынков, было связано со статистикой. Отчет Комиссии по расследованию законодательства штата Иллинойс (1980) был весьма конкретен в своей критике цифр, выдвинутых Робином Ллойдом, детективом Ллойд Мартин и Chicago Tribune, непроверенные цифры использовались для оправдания радикальных изменений в законах. Это было только после краха Джордана, Миннесоты и Аресты по делу Макмартина и публикация скептических статей о статистике пропавших детей показали, что критика начала появляться в более широком массовом масштабе. 1985 год знаменателен тем, что в нем выражались сомнения, какими бы незначительными они ни были, в достоверности фактов, статей и изображений.
Первоначально критика была сосредоточена на статистике “пропавших детей”; обозреватели часто считают статьи Дианы Гриего и Луиса Килцера в "Денвер Пост" в мае 1985 года первым разоблачением.[10] Другие были относительно мягкими, такие как статья Спитцера (1986) критика цифр, выдвинутых сенатором Паулой Хокинс, Джоном Уолшем и Организацией Хьюбнера "Поиск ребенка в Сан-Антонио, штат Техас". Но большинство из тех, кто взял на себя труд провести расследование, были более скрупулезны.[11] И как только это началось, расширение критики стало неизбежным, хотя и происходило с большой осторожностью, избегая фундаментальных проблем. Цифры о злоупотреблениях иногда раскрывались в сильно искаженном виде, как, например, в округе Дейд (Флорида) за 1986-87 годы, где было показано, что статистика злоупотреблений завышена по меньшей мере на 500% (Anonymous 1988d), но такое признание оставалось редким. Среди первых жалоб были те, в которых говорилось, что взрослых ложно обвиняют в жестоком обращении с детьми, например, члены семьи, которые считали, что их обвиняют в “родительской abuse...by бюрократии, вышедшей из-под контроля” (Шенфилд, 1978). Таких случаев, хотя они продолжали расти быстрыми темпами, но получили мало внимания со стороны развлекательных средств массовой информации, включая общедоступные женские и феминистские издания. Подкидыши таких групп, как VOCAL, стали следствием замалчивания и искажения информации средствами массовой информации, официальными лицами и экспертами, которые усиленно пропагандировали образы опасного распространения жестокого обращения с детьми и заговоров сатанинских педофилов. Ранние публикации рассказывали о влиянии на людей, обвиняемых в злоупотреблениях, и даже позволяли комментировать упущения в системе правосудия. В конце концов, однако, журналисты настаивали на том, что даже если система ошибочно обвинила кого-то, система в конечном счете исправится сама, и все будет хорошо (Кини, 1985).
Видя, как разрушаются семьи. В середине 1980-х годов Прайд заявил, что страна превратилась в “нацию параноидальных назойливых людей” и что населению угрожает “чума пиявок” (1986:30, 31). Хопкинс (1988:42), по крайней мере, спустя целое десятилетие после того, как начали появляться сообщения, писал, что возник новый “ужасающий призрак — ложных обвинений в сексуальном насилии”, и что истерия , “вероятно, будет только усиливаться”. В колонке TRB (1985) отмечалось, как за домашние фотографии были привлечены к ответственности как “детская порнография”, и это продолжалось на протяжении всего десятилетия. Эберле и Эберле (1986) и Прайд (1986) использовали множество ложных обвинений в своих книгах. Через три года после инцидента Спенсер и Броссо (1990) написали о женщине, ложно обвиненной в растлении в детском саду. “Убитая горем дедушка” (Ландерс, 1990) рассказал, как его обвинили в том, что он прикасался к своей внучке, когда играл с ней в “Вкусное”; в школе ее учили сообщать о любых прикосновениях к ней в любом месте ее тела. “Дочь канадского читателя”внезапно “вспомнила” сексуальное насилие со стороны своего отца во время терапии, опустошившее родителей.[12] Кирп (1985:35) и Бешаров (1986) также были первыми критиками, которые поняли, что большинство сообщений о насилии были необоснованными. В критических статьях примерами служили известные случаи. Натан писала в 1988 году о судебном процессе в Нью-Джерси над Маргарет Келли Майклс,[13] и о Мишель Ноубл и коллега по делу о детском саду YMCA в Эль-Пасо (1988b; также Натан, 1987). Ноубл в конечном итоге была оправдана, но в 1986 году ее приговорили к пожизненному заключению плюс 311 лет. Натан сказала, что это дело было типичным для десятков подобных судебных процессов, приводящих к “безумным приговорам”. Ноубл провела два года в тюрьме; ее сообвиняемый все еще находился в заключении в ожидании апелляции на момент написания статьи в 1988 году, но позже был освобожден.
Мэри Фишер проделала отличную работу, задокументировав грубую ошибку дошкольного учреждения Макмартин с его ошибочными жалобами, одержимой полицией, жестокими социальными работниками, амбициозными прокурорами и некритичными и вводящими в заблуждение репортерами (1988, 1989; Эберле и Эберле 1993). Репортер Los Angeles Times Лоис Тимник прославилась своими репортажами о версии обвинения, но покинул зал суда во время перекрестного допроса защиты. Отвечая на критику, редактор Дик Барнс ответил, что “я удовлетворен тем, что наше освещение было справедливым и точным”. (Фишер 1988:90). Фишер сказал, что в конце 1986 года произошли изменения в отношении репортеров, освещавших судебный процесс. Но к осени 1988 года многие репортеры перестали посещать судебный процесс и сообщать о свидетельских показаниях и уликах; идея журналистов о соблюдении баланса при выявлении предвзятости заключается в том, чтобы просто прекратить освещение событий. Тимник вообще не присутствовал при просмотре порочащих записей, интервью Макфарлейна были показаны впервые.
В начале 1990-х появилось больше аккаунтов, и хотя они более критически относились к обвинениям в жестоком обращении с детьми, они по-прежнему придерживались предела “ложных утверждений”, то есть любой секс между молодежью и взрослыми является жестоким обращением, но некоторых людей обвиняют неправильно. В газетной статье сообщалось, что только 34% всех сообщений о жестоком обращении с детьми в Техасе могут иметь какое-то значение, и что 39% по всей стране находятся на том же уровне значимости.[14] Одним из самых известных было дело против Соузы, пары, признанной виновной в сексуальном насилии и жестоко обращающимися со своими детьми (затем со взрослыми, когда выдвигают обвинения). Наиболее примечательным аспектом этого дела, которое впервые привлек широкое внимание к глупости и разрушительности подобных обвинений, было то, что взрослые дети пришли к убеждению, что к ним приставали после того, как одной дочери приснился сон о сексуальном насилии со стороны ее матери. Затем дочь прочитала “Мужество исцелять” Басса и Дэвиса (1988), убедив ее, что ее сны были "восстановленными воспоминаниями.”[15] Newsweek опубликовал статью об этом случае, автор внезапно обнаружив, что произошел сдвиг к “золотой середине” в отношении обвинений в сексуальном насилии. Это был “сдвиг”, который, хотя и был сильно ограничен, на самом деле продолжался более полудюжины лет. Журналист призывал к “беспристрастному расследованию”, но, будучи не в состоянии подняться над жанром, в нем была обязательная врезка “Как защитить своих собственных детей”. Рассматривая факторы, вызывающие “лихорадку” в судебном преследовании за злоупотребления, она вообще не упоминает журналистов (Шапиро, 1993).
Дело "Маленьких негодяев" в Северной Каролине получило аналогичное внимание, хотя двухсерийный телевизионный документальный фильм, как правило, был более высокого качества, чем большинство других, Вышедшие в эфир в июле 1993 года[16] программы смогли задокументировать принудительное, возможно, неэтичное терапевтическое поведение (как это сделал Лу Фоноллерас в деле Келли Майклс, все видеозаписи и заметки о первоначальных интервью и, возможно, более позднии, необъяснимо уничтожены социальным работником Брендой Топпин) и незаконное использование присяжными “профиля” из популярной статьи о признании вины (Нельсон, 1992) для “постановки диагноза” подсудимого как педофила, что обеспечило его осуждение и вынесение приговора к двенадцати пожизненным заключениям. Сама идея жестокого обращения в детском саду была резко отвергнута в середине 1995 года из-за нарушений, был назначен новый судебный процесс, но они мало повлияли на журналистов, полицию и социальных работников; прокуроры пообещали подать апелляцию.[17]
В 1993 году NBC продолжил свой стиль бульварной журналистики, выпустив в эфир очень недолговечный сериал под скромным названием "Крестоносцы", в котором репортеры выступали против различного рода зла. В “специальном” шоу, вышедшем в эфир 6 февраля 1994 года, они наконец-то дошли до того, чтобы использовать секс между взрослыми и молодежью для своего постыдного героизма (“Мы выступаем за невинность ваших детей!”). Они говорили об “ужасающих угрозах” детям, которые они обнаружили, и хвастались, что “Крестоносцы намерены остановить это!” Шоу представляло собой обычную, слегка подправленную коллекцию клише, таких как педофил в роли похитителя и убийцы детей. Замечательная постановка, в шоу также использовалась музыкальная дорожка с теми высокими скрипками, которые можно услышать в фильмах ужасов. Кеннету Вудену разрешили заманить нескольких детей прямо перед нашим эфиром у всех на глазах (с помощью скрытой камеры, что усиливало вуайеристский ажиотаж), а агент ФБР Лэннинг был представлен как научный авторитет в области педофилии. Другими приглашенными экспертами были почти все сотрудники полиции, и примеры, включая стандартное устройство для признания осужденного педофила в тени, как утверждалось, были взяты из реальных дел”. Несколько журналистов и профессионалов в 1990-х годах начали проводить различие между “ложными сообщениями” (сообщение о любых подозрениях в соответствии с требованиями закона, которые позже оказались необоснованными) и “злонамеренно ложными сообщениями” (такими, которые появились чаще всего в спорах об опеке), но это было редкостью, и большинство продолжало некритично продвигать старые взгляды. Донеган (1993b) перечислил критические замечания, которые высказывались в течение многих лет, используя такие слова, как “охота на ведьм” (сохранив кавычки), но не упомянул о какой-либо ответственности СМИ за преувеличение и фальсификацию, вероятно, потому, что типичным примером была собственная газета Донегана. Векслер (1993) счел статью Донегана достойной восхищения, но призвал к более далеко идущим реформам, конечно, не нарушая никаких базовых предположений о том, что представляет собой сексуальное насилие.
Побочный эффект осознания ложного обвинения был связан с самими детьми. Существовало два основных направления этой реакции, но до редких появлений в начале 1990-х годов ни одно из них не получило широкого или серьезного рассмотрения, когда речь шла о жестоком обращении. Оба варианта допускали сохранение утверждения о том, что “жестокое обращение реально”. Одним из них была история “дети введены в заблуждение”, что было необходимо, учитывая яростное настаивание на невиновности детей на протяжении всего периода. Розенберг (1984a) посчитали, что некоторые дети, заявляющие о сексуальном насилии, взяли свои сценарии из телевизионных новостных репортажей. Эберле и Эберле (1986: 266ff) были представлены показания детей, утверждающих, что они рассказывали истории о растлении, потому что следователи продолжали принимать "нет" за ответ "да" и продолжают задавать наводящие вопросы. Холлингсворт сказала, что Браги были чувствительны к детям (1986: 52f, 74), и ее реконструкция первого интервью содержит довольно много таких примеров.[18] Джо Брага спросил мальчика, засовывал ли злодей когда-нибудь свой пенис кому-нибудь в зад, и мальчик тогда сказал "да" и продемонстрировал это с куклами, хотя раньше он об этом не упоминал в интервью. Поэтому Холлингсворт настаивал на том, что никто “не сможет отрицать, что интимные знания маленького мальчика о сексуальной активности были результатом чего-либо иного, кроме непосредственного опыта” (стр. 78). Независимый психотерапевт, участвовавший в деле Келлера в Остине, штат Техас, насчитал 89 наводящих вопросов при допросе детей.[19]
Хопкинс (1988) документирует, как детям велели, оказывали давление и угрожали, заставляя их рассказать о жестоком обращении и назвать имена обидчиков.[20] В своем выпуске 48 часов о деле Майклза (“Конец невиновности”, 5 мая 1993) неоднократно показывали детей кричащие “Нет!” на наводящие вопросы социальных работников, полиции и психотерапевтов; дети, говорящие “У них даже нет ложек в школе”, когда их спрашивают о предполагаемом введении ножей, вилок и ложек в прямую кишку и влагалище детей; и дети, утверждающие, что социальный работник Лу Фонольерас распространял истории о жестоком обращении с другими детьми. Росс (1986a) писал, что первоначальное отрицание ребенком жестокого обращения было проигнорировано социальным работником, проводившим собеседование, который якобы сказал: “Расскажи это, или мы будем сидеть в этой комнате весь день, пока ты этого не сделаешь”. Другой ребенок, упомянутый в статье рассказал, как заместитель шерифа постоянно отказывался верить его опровержениям, поэтому Я должен был сказать, что они действительно имели место”. Но даже перед лицом растущих улик и напоминая о защите профессиональной невиновности и честности Дэвида Финкельхора, цитировались слова Роланда Саммита, настаивавшего на том, что “в мире, насколько я знаю, нет профессионала, который придумал бы безумную историю [или] имплантировал бы ребенку что-то, что могло бы привести к уголовным обвинениям.”
Появилась другая ветвь критики в адрес детей и ложных обвинений с еще меньшим вниманием, потому что это было более прямое откровение о том, что дети могут лгать и действительно лгут. До 1985 года сообщений об этом было немного, но в том году они стали более приемлемыми отчасти потому, что к тому времени дело Макмартина было очевидным фарсом, и многие дети в деле Джордана, штат Миннесота, признались в фабрикации своих историй, но также и потому, что Кэтлин Уэбб на широко разрекламированном мероприятии в мае 1985 года отказалась от своих показаний, его обвинили в изнасиловании, за которое мужчина был осужден и помещен в тюрьму шесть лет назад. 10-летняя девочка из Сакраменто, штат Калифорния, терапевты и прокуроры проигнорировали ее и не поверили ей, когда она попыталась сказать им, что солгала о сатанинских убийствах и жестоком обращении, но в конце концов смогла убедить судью по этому делу (Anonymous 1985e). Кирп (1985; TRB 1985) привел случай, когда девочка ложно обвинила чиновника правоохранительных органов Калифорнии, который выступал за ужесточение наказания за жестокое обращение с детьми. Он продолжал делать это после своего ареста, суда и оправдания. 12-летняя девочка солгала о предполагаемых ухаживаниях директора своей школы, разрушив его карьеру (Аноним, 1987e). Короткая заметка из Кентукки рассказала, как девочка, которой тогда было 10 лет, была вынуждена матерью солгать о “жестоком обращении”; мужчина провел восемь лет в тюрьме, а девочка почувствовала себя свободной высказаться, только когда ей исполнилось 18 и ее больше не контролировала мать (анонимно 1987г). Стерли (Stearley, 1988) привел отчет, в котором 11-летний мальчик солгал о предложении заняться сексом, что сделало это гораздо более серьезным обвинением просто потому, что он хотел доставить мужчине неприятности. Еще одной горькой пилюлей стало неохотное признание того, что дети будут лгать по самым тривиальным причинам. Кирп (1985) привел пример, где девочки лгали о сексе с учителем из-за низкой оценки, а Буллоу (1985) упомянул случай, когда ребенок обвинил своих родителей в жестоком обращении за то, что они заставили его мыть посуду.
То, что было вычеркнуто из первоначальной критики активистами в конце 1970-х годов, было двумя важнейшими вопросами, которые следующее десятилетие было потрачено на отрицание и замалчивание. В то время, как показания детей были разрешены, даже если они подтверждали ошибку, те, которые подтверждали сексуальность детей, - нет. Берсани (1988: 215) намекает на это в конце десятилетия, когда мимоходом упоминает “поле битвы сексуальной политики как включая "паническое отрицание детской сексуальности, которое в наши дни "принижается" как почти психотическая тревога по поводу жестокого обращения с детьми”. Барри (1992) наблюдал в Британии широкое сопротивление дискуссиям и исследованиям, но появление в популярной прессе комментариев, подобных этим, довольно сильно отставало от критики более проницательных наблюдателей, которые продолжали игнорироваться популярной прессой. Также замалчивался широкий вопрос о правах детей, который серьезно пострадал от импульса, набранного на протяжении 1970-х годов. Идя рука об руку наряду с отрицанием и попытками искоренить сексуальность детей возникает проблема согласия, которая была в центре большинства нападений в 1980-х годах. Газетная статья Клэри (1992) создала обычное журналистское впечатление, что этот вопрос только тогда рассматривался, игнорируя более чем двадцатилетнюю дискуссию и агитацию активистов и нескольких профессионалов. Клэри упоминает, что “жертвы” (отдельные случаи с участием двух женщин, 15 и 16 лет) неоднократно заявляли, что они давали согласие на отношения, и далее, что они не хотели видеть своих любовников преступниками. Эти случаи не получили бы даже такого довольно умеренного внимания, если бы они были моложе. Дополнительный интерес представляет тот факт, что статья была размещена не в основной новостной части газеты, а в разделе “Стиль жизни”, традиционном месте для банальных “женских новостей”. Проблема не была предметом неоднократных специальных статей и новостных репортажей, которые характеризовали внимание к “насилию”, и статья Клэри осталась единичным упоминанием. Продолжалось отрицание и игнорирование позитивных или безразличных сексуальных отношений между взрослыми и молодежью на всех фронтах. Этот краткое появление позже, в середине 1990-х, было вытеснено термином "педофил", чтобы охватить тех, кого привлекают подростки среднего и позднего возраста, а в 1995 году отчетАлана, Институт Гуттмахера послужил толчком к судебному преследованию этих случаев как “сексуального насилия над детьми”.
Помимо отрицания положительных контактов, критика, появившаяся в конце 1980-е и начале 1990-х годов не предлагали контекстуализации или вариаций “педофилии”. Для массового рынка проблемы оставались лишенными политического контекста, который мог в таких красноречивых деталях обсуждаться активистами в течение многих лет. После чего возобладало мнение, что секс между молодежью и взрослыми - это насилие, независимо от ситуации или участников, и что педофил - законный злодей, заслуживающий самого сурового наказания. Общая реакция на виктимизацию появилась в начале 1990-х годов. В этом не было ничего нового, это было продолжение критики, которая началась непосредственно перед началом истерии.[21] По большей части это было консервативно по своей природе и представляло собой тот скептицизм, который часто был первой пренебрежительной реакцией на жалобы этнических групп, религий, гомосексуалистов и женщин (Сайкс, 1992). Однако также возникали либеральные сомнения в начале 1990-х годов по поводу аргументов психологически ориентированных аналитиков. Большинство сомнений касалось того, действительно ли жертвами стали так много людей, как утверждалось, насколько серьезным было это “насилие”, насколько сильно эти инциденты повлияли на дальнейшую жизнь и насколько беспомощными они были и являлись пассивными “жертвами.”[22] Хотя это были реакционные нападки на более раннюю идею невинности, британская феминистка Дженни Китцингер выступила с более либеральной критикой “невинности” и протекционистского подхода, заявив, что они используются для контроля над детьми и отрицания их сексуальности.[23]
В конце 1980-х и начале 1990-х годов наблюдался всплеск случаев, когда люди с помощью терапии “восстанавливали” воспоминания о жестоком обращении, которые были заблокированы из-за того, что травма должна была быть настолько серьезной. Этот шквал жертв и их разоблачение в значительной степени способствовали цинизму начала 1990-х годов. В результате было подано довольно много гражданских исков против предполагаемых насильников, а также вынесены суровые обвинительные приговоры. Souzas - самый известный пример. Дочь Пола Ингрэма обвинила его в растлении четырех из его пятерых детей на основании “восстановленного воспоминания.” Существовали разные версии того, как она впервые обвинила своего отца, и в ее рассказах о том, когда, как и кто был вовлечен, были большие несоответствия.[24] Ричард Офше, один из консультантов по делу Ингрэма, выступил с основательной критикой подхода “восстановленной памяти.” Офше и соавтор Уоттерс сказали, что ”разрушительные ошибки“ допускаются этой "псевдонаукой”. Хуже того, она создала свою собственную эксклюзивную социальную организацию, приверженцы которой взаимно усиливают друг друга и клеймят критику. Это был “мир Алисы в стране чудес в какое мнение, метафора и идеологическое предпочтение заменяют объективные доказательства” (1994:5; ix, 8, 202ff, 289ff). Они сказали, что терапевты, которые вызывают абреакции (облегчение подавленного аффекта, выражающееся в прямом эмоциональном и физическом повторном переживании предполагаемой травмы), являются “новым классом сексуальных хищников”, и они “заслуживают морального осуждения” (стр. 7). Однако авторы не предлагали наложить арест на их имущество, заключить их в тюрьму или заставить пройти курс лечения. Офше и Уоттерс не выдвигали никаких расширенных требований. Анализ движения как связанного с более общими идеологиями сексуального насилия, хотя был сделан некоторый вывод о том, что выявленные признания взрослых, а также и детей основаны на таком же подходе. Они сказали, что когда впервые появились заявления о “восстановленной памяти”, никто не подумал, что заявители могут быть жертвами терапевтов; первыми подверглись критике обвиняемые, затем те, кто стал жертвой терапевтов, затем некоторые “основные” специалисты в области психического здоровья (стр. 13).
Большинство “восстановленных” случаев были связаны с преднамеренной или индуцированной фальсификацией. В одном случае, получившем небольшую огласку, проблемная молодая женщина была направлена к психотерапевту (ее двенадцатилетнему ребенку), который предположил, что она подверглася сексуальному домогательству со стороны своего отца. Поначалу девочка отрицала это, но психотерапевт Кэтрин Мейерс продолжая настаивать на этом на протяжении двух с половиной лет терапии, используя семейные фотографии, чтобы попытаться доказать эмоциональные состояния и события.[25] В конце концов, она сказала психотерапевту, что, возможно, помнит, как ее отец пытался прикоснуться к ней. Позже молодая женщина попыталась взять свои слова обратно, но Мейерс сказал ей, что это нормально - пытаться отречься. Девушка продолжила “восстанавливать” истории, затем попыталась отречься, но Мейерс снова сказал ей, что она просто “отрицает”. На основании этих утверждений девять сотрудников полиции арестовали отца и обыскали дом. Без ведома или разрешения отца родители отправили девочку в больницу Шеппарда и Еноха Пратта для психиатрической экспертизы, где ей поставили диагноз “Раздвоение личности” с более чем 60 личностями, одна из которых начала рассказывать истории о сатанинском ритуальном насилии. Девочка сказала, что чувствовала себя “пойманной в ловушку” в больнице. Затем она назвала двух своих братьев жертвами, но независимые эксперты сказали, что это маловероятно. Однако социальные работники отправили мальчиков в округ Сент-Мэри, штат Мэриленд департамент шерифа; подростки пытались бежать, но были арестованы под дулом пистолета и в наручниках. Во время пребывания в больнице девушку накачивали наркотиками, держали в наручниках и гипнотизировали более 60 раз; она дважды пыталась покончить с собой. Теперь молодая женщина говорит, что все истории были выдуманы под давлением терапевтов и психиатров.
На момент огласки социальные работники все еще пытались разлучить семью.[26] Вера в заблокированные воспоминания особенно важна для тех, кто утверждает, что среди населения существует высокий уровень жестокого обращения. Причина, по которой не каждый третий человек рассказывает о подробностях своего жестокого обращения, заключается в том, что воспоминания подавлено и может быть восстановлено только с помощью профессионального руководства. Некоторые специалисты все еще признают законность восстановленной памяти, и к 1993 году почти в двух десятках штатов были приняты законы, разрешающие судебное преследование за жестокое обращение на срок до трех лет после того, как предполагаемая жертва впервые вспомнит о растлении (Райт 1994:50 назвал это “новаторским”). Но критика появилась рано. В начале 1992 года был основан фонд "Синдром ложной памяти", о котором много говорили, чтобы оказывать социальную и юридическую поддержку людям, которых их взрослые дети обвиняли в жестоком обращении. В течение следующих нескольких лет споры достигли массового распространения.[27] В мае 1994 года присяжные присудили определенную сумму мужчине, который подал в суд на психотерапевта за то, что тот внедрил воспоминания в сознание родственницы, а затем обвинил мужчину в жестоком обращении с ней. В декабре 1994 года суд присяжных в Питтсбурге присудил компенсацию супружеской паре, которая была арестована после того, как их дочь обвинила их в жестоком обращении; психиатр Джудит Коэн и Западный Психиатрический институт признал вину в неадекватной оценке заявлений дочери. Терапевты и прокуроры оплакивали судебные решения, но в 1993 году Американская психиатрическая ассоциация призвала к осторожному подходу к “восстановленным воспоминаниям”; аналогичной позиции придерживались американские медицинские Ассоциации и Американской психологической ассоциации в 1994 году.[28]
Некоторое время в начале и середине 1980-х годов господствовала школа “врожденных знаний”, то есть вера в то, что дети обладают инстинктивными знаниями о “морали”, которые при определенных обстоятельствах могут быть “запущены”; при выборе пола или его отсутствия ребенок откажется от секса. Подростковые гормоны усложняют теорию, но это было уверенно заявлено, что подростки никогда не выберут плотский путь. “Восстановленные воспоминания” - вариация этой идеи. Их реальность и правильность должны быть приняты безоговорочно, поскольку их происхождение и цели в конечном счете загадочны, они являются частью более широкого дискурса "естественное против неестественного", различия определяются и структурируются партикуляристскими моральными иерархиями. Как и теория влечений к сексу, она считает, что сексуальность и ее понимание определяются физическими детерминантами и что дети не могут понять (“справиться”) с сексуальными чувствами по неизменным причинам, биологическим причинам и “естественно” травмируются сексуальным прикосновением. Одна из лучших популярных книг о виктимной критике была написана Венди Каминер (1992). Она правильно поняла, что “движение за восстановление” уходит корнями в религию, но многие другие задокументировали, что сама психология и большинство популярных традиций самопомощи культурно, социально и экономически связаны с институциональными формами религии.[29] Каминер сказал, что большинство традиций самопомощи являются скрытыми конформистскими и авторитарными, особенно в их методах, и их поддерживают культивируемой самим собой “мистикой компетентности” (стр. 6); они способствуют зависимости, поощряют инвалидизацию и лишают людей власти. Она чувствовала, что движение “может быть слишком запутанным идеологически, чтобы когда-либо представлять серьезную угрозу” (стр. 163). Конечно, это конкретное “движение” вызывает путаницу, но когда оно идеологически связано с кампаниями по борьбе с сексуальным насилием (а также с деятельностью по борьбе с наркотиками и порнографией), последующие принятые законы, аресты и вынесенные приговоры были разрушительными не только для пострадавших (включая детей), но в долгосрочной перспективе к социальной и политической инфраструктуре демократии также. Именно в этом параллелизме и слиянии внешне различных потоков озабоченностей и решений при множественных воздействиях сохраняется ущерб и извлекаются издержки на чрезвычайно широких фронтах.
В начале 1990-х годов в эфир вышло несколько разоблачений жестокого обращения психиатров с детьми, что стало поддержкой критики “восстановленных воспоминаний”. В Техасе, где коррупция была наиболее распространена, журналисты использовали те же клише для характеристики психиатрических больниц, обвиняемых в похищении детей в свои учреждения: ”Жадные до прибыли медицинские корпорации нацелены на детей и подростков", чтобы поместить их в учреждения за страховые деньги (Хендрикс, 1992). Были разрешены реформы (не было конфисковано имущество и никто не был заключен в тюрьму) и корпоративные цепочки (не называемых “кольцами”) психиатрических больниц пообещали воздержаться от направления консультантов компаний в государственных школах, пообещав получить второе мнение, прежде чем помещать в специализированные учреждения детей младше десяти лет.[30] Критические жалобы были также обнаружены в нескольких незначительных, но интересных областях. В одном случае пропагандист “сексуальной зависимости” отчаялся потерять контроль над лечением и авторитет в этой области и почувствовал, что концепция применяется неправильно, поскольку термин стал популярным (Peele 1989). Более популярным был продаваемый жанр "Страдающая знаменитость". Сенатор Пола Хокинс (R-FL) произвела фурор в средствах массовой информации, когда объявила, что подверглась сексуальному насилию, когда ей было пять лет (Anonymous 1984d и 1984e, Хокинс 1986). Опра Уинфри в 1986 году обвинили в жестоком обращении, Розанна Арнольд в 1991 году настаивала на том, что она подвергалась сексуальному в детстве, подвергалась растлению со стороны своих родителей, и появилась книга с участием ряда знаменитостей, рассказывающих об их жестоком обращении (Сомерс, 1992). Некоторые из них позже стали мишенью комедийных сериалов, особенно Арнольд.
II
В связи с позицией “жестокое обращение реально” многие критики жаловались на то, что некомпетентность и коррумпированность прокуроров, полиции и социальных работников наносят ущерб законным программам и учреждениям для детей. Наиболее очевидными примерами являются детские сады, но также была включена реакция школьного персонала и родителей, все начинают бояться прикасаться к детям по любой причине, каким бы то ни было образом. Сначала такие опасения высказывались лишь робко (Уолтерс 1975: 130), но позже критика стала более настойчивой и склонялась к предоставлению разрешения “законным” фигурам прикасаться к детям, потому что это не было “настоящим жестоким обращением с детьми”.[31] Разновидностью этого были сомнения, связанные с так называемым “жестоким обращением программы повышения осведомленности”, которым подвергались и продолжают подвергаться почти все дети. Многие чувствовали, что они вызывают страх и недоверие и лишают детей необходимой привязанности. “Мама из Аризоны” написала Энн Ландерс, спрашивая, что делать с ее сыном, который казался чрезмерно ласковым с незнакомцами. Ландерс (1989) посоветовал ей наказать сына и “сделать это наказание запоминающимся!”[32] Наконец, все еще сохраняя связь со стандартной теорией жестокого обращения и демонстрируя ту замечательную цикличность, которая так часто случается в эти периоды, утверждалось, что программы “повышения осведомленности” могут “даже привнести преждевременный сексуальный контекст в отношения [детей] со взрослыми” (Эльштайн 1985:24).
Натан называла кампании по борьбе с жестоким обращением “сошедшим с ума движением в защиту детей” (1990a:44). В романе Брауна (1991) фигурировали ребенок, фабрикующий обвинение, и одержимый психиатр, что значительно изменило образы предыдущего десятилетия в художественной литературе. Для критиков, нападающих на профессионалов, одним из основных критических замечаний было то, что процедуры, используемые для оценки так называемых жертв, были неправильными и направлены не по назначению. Следует отметить, что не было никаких критических замечаний в отношении выявления и наказания педофилов; это было принято без вопросов. С самого начала. доказательства были вполне очевидны, хотя потребовалось несколько лет, чтобы появились отчеты: спасение детей слишком часто само по себе было формой жестокого обращения с детьми, физического и эмоционального и в сексуальном плане. Особого упоминания заслуживают рассказы об обысках детей с раздеванием и интенсивных многочасовых допросах. Карлсон (1985) рассказал, как “врачи засовывают пальцы внутрь...влагалища маленьких девочек” при обследовании, чтобы определить, подвергались ли девочки проникновению. Холлингсворт жаловался, что в случае обвинений в жестоком обращении дети должны были подвергаться физическому осмотру экспертами, в том числе введения в каждое отверстие; она отметила, что дети кричали, их удерживали двое или трое спасателей.[33] Эберле и Эберле рассказывают историю о ребенке, которого привели на обследование, на котором врачи оставили отметины и синяки. Когда ребенка отвезли к другому врачу для проверки, второй врач указал на синяки и отметины как на доказательство жестокого обращения, и затем ребенок был помещен в приемную семью (1986:125; 185). Многие наблюдатели поняли, что симптомы жестокого обращения были замечены только после предъявления обвинений. Макхью раскритиковал идею видеть “множественное расстройство личности” как заболевание, указывающее на сексуальное насилие над детьми, выражение “MPD” является продуктом только “культурной моды” и “спектральных свидетельств".[34]
В то время как у многих обследованных детей, по понятным причинам, начали проявляться симптомы жестокого обращения, вокруг этих событий начал развиваться интересный дискурс, аналогичный тому, который использовался для предъявления обвинения педофилу. Эберле и Эберле (1993:349) цитируют “бывшую работницу службы защиты детей”, которая сказала, что она следила за детьми, которые были изъяты из своих семей и воспитывались государством. По ее словам, “многие [дети] находятся в тюремной системе. Некоторые находятся в психушке. Большинство из них просто вырастают и становятся неприметными дисфункциональными со случаями задержки развития”. Также на раннем этапе появилась обширная критика процедур, нарушающих конституционные права родителей и, для тех, кто в них верил, права детей (Schoenfield 1978, Barrie 1992). Основными жалобами были нарушения надлежащей правовой процедуры, необоснованный обыск и выемка, а также изъятие детей у родителей. Утверждение о том, что вера в систему пошатнулась из-за медлительности или неспособности вернуть пропавших детей, прозвучавшее в начале периода вновь появились с середины 1980-х годов в виде жалоб на юридическую жестокость, поскольку все больше и больше людей и семей страдали от охоты за насильниками. Векслер сказал в конце десятилетия, что “В 1990-х годах Америка столкнулась с вторжением современных спасателей детей. Они уничтожают детей, чтобы спасти их.”[35]
Все это привело к критике практики полиции, такой как арест без доказательств и/или понаслышке, арест граждан, которые критиковали полицию и прокуратуру, целенаправленное не информирование обвиняемых о правах и надлежащих процедурах, физическое жестокое обращение с родителями и детьми, а также руководящие и принудительные допросы детей. В то время как критика полиции была относительно мягкой, с ней были связаны прокуроры, система правосудия и законы, которые подверглись более жесткой критике. Статьи Гебхарда (1965a, b), основанные на эмпирических данных, представляли собой краткий либеральный период в сексологии, когда законы критиковались за их деструктивность и аморальность. Критика истерии 1980-х содержала некоторые признаки либерализма, хотя большинство придерживалось идеи "злодей-жертва", в сексе взрослых с молодежью. Векслер осудил практику внесения семей и отдельных лиц в “центральный реестр” (1985), политику, которая продолжалась в 1990-х годах. Жалобы были смешанными: некоторые критиковали существующие законодательные акты и хотели более суровых законов, в то время как другие хотели нового законодательства и агентств. Многие смешивали эти темы в своих критических замечаниях, но, похоже, никто не считал необходимым какой-либо пересмотр законов о борьбе с педофилией. Национальный реестр лиц, осужденных за преступления на сексуальной почве, был введен федеральным законом в середине 1996 года, что не оспаривалось профессионалами, журналистами и политиками.
В деле о детском саде Fells Acres все дети отрицали какое-либо насилие, кроме медсестры Сьюзан Келли, она подкупила их и провела с ними собеседования, которые помогли обвинить Амираултов прокурором Лоуренсом Хардуном, который настаивал на том, что дети никогда не лгут о сексуальных контактах. После восьми лет тюремного заключения две женщины должны были выйти на свободу, но прокурор Скотт Харшбаргер добился отмены судебного приказа (позже он стал генеральным прокурором Массачусетса). Все средства массовой информации придерживались линии штата. Документируя это дело, Рабинович возмущенно спросил (1995): “Может ли такая судебная ошибка — если можно ли использовать столь мягкий термин для обозначения столь ужасающей трагедии — быть поддержанной волей государственных обвинителей?” Ну, да. Такое поведение было обычной профессиональной практикой на протяжении 1980-х и начала 1990-х годов, за что их коллеги и общество вознаграждали повышением по службе и прославлением. Эдельман отметил, как прокуроры использовали дела для построения карьеры (1988:21), критика также была выражена через вымышленного персонажа амбициозного и склонного к манипуляциям прокурора (Brown 1991). Натан сказала, что один бывший присяжный сказал, что кому-то нужно расследовать, почему дело Мишель Ноубл дошло до суда на первом месте. Она сказала, что первоначальный обвинитель Дебра Каноф “нагнетала истерию в зале суда”, провоцируя и преследуя Ноубл и делая совершенно абсурдные заявления, такие как утверждение, что Ноубл хирургически изменила свою грудь для обеспечения алиби.[36] В деле Ингрэма прокуроры пытались утаить отчет защиты, в котором говорилось, что обвинения были ложными. Ричарду Офше, автору отчета, пришлось самому идти к судье, чтобы добиться его обнародования. Отчет был утаен от Ингрэма по совету его пастора из опасения, что это “запутает” Ингрэма (Райт 1994: 177f). Удержание доказательства, представленные прокурорами, были обычным явлением как в этих, так и в других делах.
В своем обзоре обвинительного приговора Келли Майклс Рабинович сказала, что это было “в такой же степени плодом лихорадочного воображения обвинения, как и конструкцией закона”. Она правильно заметила, что “законы могут быть приняты для поддержания… постановлений, основанных на страхе и суевериях” (1990: 52f), и что анонимность способствует умножению обвинений и усиливает их странность, за которую прокуроры ухватятся как за моральный инструмент. Одному последовательному стороннику Майклза было предъявлено обвинение, и тем самым его заставил замолчать (стр. 58). Судья по этому делу разрешил давать показания с чужих слов в течение нескольких месяцев, затем, как раз перед тем, как присяжные должны были удалиться для обсуждения, судья проинструктировал их не обращать на это внимания. Судья также запретил защите проверять истцов, опечатал стенограмму судебного заседания, принял показанные по телевидению показания детей и не позволил психологу защиты обследовать детей (несмотря на два года анализа и консультаций со стороны прокурорских психологов), потому что это может быть слишком травмирующим.[37] Представляется крайне маловероятным, что кто-либо из полиции, социальных работников, судей, прокуроров или других лиц будет привлечен к ответственности, хотя Келли Майклс в 1995 году подала иск против своих обвинителей. Политики подверглись некоторой критике в той мере, в какой они использовали этот вопрос для озвучивания моральных клише, и в той степени, в какой это укрепляло их бюрократические полномочия. Юристы также получили несколько ударов. Рабинович (1990:59) рассказал, как дело Майклса было передано в суд общей юрисдикции и оставалось без рассмотрения в течение нескольких месяцев, потому что адвокаты защиты боялись, что оно затянется слишком надолго или оскорбит местного судью. Эберле и Эберле (1986) и Гарднер (1991) упоминают юристов, которые предлагали предоставить доказательства злоупотреблений по требованию.
Для особой критики были зарезервированы две цели. Одной из них были профессионалы, разработавшие теорию и осуществившие практику борьбы с “сексуальным насилием над детьми.” Опять же, на их работу над “педофилом” вообще не было никаких жалоб. Критики признавали и даже поощряли авторитет экспертов и профессионалов в их теориях сексуальной патологии, обычная критика заключалась в том, что большинство из них были просто плохо обучены. Многие с самого начала заметили, что профессионалы были существенно заинтересованы в контроле определения проблемы и ее решений. Это усиливает их влияние и власть, и это, очевидно, в их интересах. Интерес к ограничению дебатов и доказательств, противоречащих друг другу. Барри рассказала о студентке, которой было отказано в гранте, если она не представит результаты, которые позволили бы властям “выявлять педофилов”, и отметила, что исследователи в своих исследованиях и доказательствах просто имитируют предыдущую работу.[38] Рабинович сказал, что эксперты “убеждают как родителей, так и детей в том, что количество жестоких обращений практически безгранично — за пределами их воображения.[39] Психологи, психиатры, терапевты и сам терапевтический процесс подвергались критике за некомпетентность, злоупотребления, мошенничество и спекуляцию.
Однако для большинства критиков главной мишенью были социальные работники. Обычно это были те, кто обыскивал детей с раздеванием, забирал их из семей на основании ничтожных улик или анонимного звонка, допрашивал детей часами, инициировал необоснованные обыски, задавал наводящие вопросы и отказывался принимать ответы или факты, не соответствующие их теории, завышал статистику, давал показания в судебных процессах в пользу тех, кто утверждал, что был слишком уязвимы для травм, и продолжали выдвигать обвинения после увольнений. Рабинович сказал, что социальные работники Лу Фоноллерас и Пег Фостер (главный вдохновитель книги Мэншела 1990 года) руководила их расспросами, поощряла ответы, которые они могли использовать, и угрожала после получения отрицательных ответов на свои вопросы; они уделяли мало внимания тому, что на самом деле говорили дети (стр. 57f). Встреча с Фоноллерасом и следователем округа Эссекс Ричардом Мастранджелом заканчивает тем, что осажденный ребенок кричит: “Все это ложь![40]
Другой главной мишенью, подвергшейся обширной документированной критике, были развлекательные СМИ. Больше всего критики было в адрес газет и телевидения, хотя многие журналы также подверглись осуждению. В начале и середине 1980-х годов, особенно на телевидении, средства массовой информации с энтузиазмом пропагандировали надуманные “кризисы” по ряду социальных проблем (Altheide 1987). Ранняя критика исходила от Комиссии по расследованию законодательства штата Иллинойс, которая привлекла Chicago Tribune к ответственности за дезинформацию, и от Розенберга (1984a, 1985), который разоблачил телевизионную журналистику как непосредственно способствующую созданию проблемы.[41] Вряд ли что-либо из этого появилось до 1985 года. Холлоуэй (1985) критиковал телевизионный фильм “Дети не рассказывают”, заявив, что тема (растление малолетних) была раскрыта и сделана лучше, что в фильме не было никакой новой информации и что он не был "ужасно интересным". Она риторически спросила, не “усугубляет ли телевидение уже существующую проблему, может быть, даже создает новые проблемы?”, но не было ни прямых обвинений в адрес фильма, ни каких-либо сомнений в характеристиках злодея и жертвы, ни в самой проблеме Буллоу (1985) сказал, что средства массовой информации изображали рост жестокого обращения с детьми, когда он чувствовал, что на самом деле оно снижается, и эти изображения являются просто “массовой истерией” в обществе национальных СМИ. Кирп сказал, что СМИ не хватает скептицизма. Истории — это клише, и он процитировал характеристику сюжета телевизионного критика Говарда Розенберга - ’Ребенок—наркоман убегает после того, как к нему пристают родители, страдающие болезнью Альцгеймера и садящиеся за руль в нетрезвом виде” (1985:34) - в качестве примера менталитета исправления, используемого при разработке программ. Сюжеты повышают рейтинги, что приводит к “взрыву поп-культуры”, - сказал он (стр. 35). “Возможно, безразличие можно преодолеть, а интерес публики вызвать, только превратив сложную социальную реальность в простую игру в мораль”, - сказал он, но добавил: “там не так уж много рынка для двусмысленности” (стр. 35). Обозреватель TRB счел, что “многие графические истории ужасов в прессе сами по себе являются немногим большим, чем детское порно” (1985:4). Натан сказала, что редакторы и репортеры El Paso Times во время судебных процессов над Ноблом и Дав совещались только о том, как далеко можно зайти в перепечатке графических свидетельских показаний, а не о том, заслуживают ли какие-либо утверждения расследования (1987:30). Фон Хоффрнан яростно заметил, что репортеры и редакторы принимают абсурдную статистику о пропавших детях, потому что существует “профессиональный запрет на глубокое дыхание и обдумывание ясных мыслей” (1985:10). Рабинович сказала, когда была комментатором новостей на WWOR-TV Джерси она обнаружила, что “журналисты, которые гордились своим скептицизмом... были возмущены малейшим предположением о том, что обвинения штата против Келли Майклс не заслуживают доверия.”[42] Менеджер отдела новостей телеканала посоветовал ей “забыть об этом”, когда она планировала выпустить в эфир критические замечания по делу (стр. 53). Она сказала, что СМИ некритично восприняли намеренно спланированные утечки из прокуратуры, потому что они соответствовали “текущей догме” и поддерживали репортажи журналистов, в которых Майклс изображался виновным (стр. 63).
Интересный взгляд на освещение дела Майкла в средствах массовой информации был предложен матерью одного из предположительно подвергшихся насилию детей, автором художественных статей под именем “Патриция Кроули”. Она узнала, что коллеге было поручено освещать эту историю, и, имея представление об институциональной практике, Кроули испугалась, что ее включат в репортажи газеты, но ее имя не было использовано. Она сказала, что репортер была “почти так же поглощена [этим делом], как и я”, и она обсуждала с ней это дело “часами”, каждый из которых укреплял веру другого в виновность Майклза. Когда друг сказал, что Newsweek хочет, чтобы друг освещал это дело, Кроули расстроился из-за “сенсационной истории прикрытия”, которая могла бы получиться. Кроули чувствовала, что ее подруга “написала бы прекрасную, глубокую историю, которая, несомненно, заставила бы каждого родителя в Америке крепче обнять своего ребенка и поблагодарить Бога, что в их семье никогда не случалось ничего подобного”, но позвонила своей подруге и попросила Newsweek убить ее историю (1990: 140ff, курсив в оригинале).
Освещение в средствах массовой информации самого длительного и дорогостоящего судебного процесса о злоупотреблениях в мире было подробно задокументировано Эберли. Были отмечены два вида дезинформации: преднамеренные отказы сообщать о свидетельских показаниях и/или событиях, благоприятных для защиты (1993:119, 120, 123, 177, 180, 232, 237, 261, 287, 311); а также искажение и фабрикация репортерами свидетельских показаний, заявлений и событий с целью сделать их выгодными государству (стр. 20f, 51, 91f, 104, 117, 118, 163, 173, 241, 257, 289, 299f, 359f, 373f, 390, 398, 409). Они сообщают, что двадцатилетний ветеран Лос Анджелес Таймс провела собственное расследование, которое не выявило никаких оснований для обвинений, но газета не только отказалась публиковать статью, но и отстранила его от работы на два дня; позже он подал в отставку (стр. 352). На оглашении 18 января 1990 года вердиктов о неправильном судебном разбирательстве (по 13 пунктам) и невиновности по остальным СМИ отказались брать интервью у адвокатов защиты — и у Эберли, которые были признанными долгосрочными наблюдателями за ходом дела, — и вместо этого сосредоточились на обвинении и разъяренной толпе, последняя угрожала убейте Баки (стр. 353ff). После первого вердикта были крайне предвзятые шоу на Geraldo, Салли Джесси Рафаэль и Опре Уинфри, где и зрители, и гости сочувствовали обвинению (стр. 355).
Несколько проницательных критических замечаний в адрес эксплуатации СМИ начали появляться в начале 1990-х годов. Миллер назвал “невероятно предвзятым” телефильм "A Mother's Right” на Элизабет Морган, которая сбежала со своим ребенком и была заключена за это в тюрьму. Фильм заставил поверить, что отец жестоко обращался с детьми, хотя на самом деле это так и не было доказано после тщательного расследования. Отца сыграл известный актер для “сомнительных” ролей, а актриса в главной роли часто играла героических женщин; были сыграны только те сцены, которые были выгодны Морган. Миллер сказал, что фильм находится “на тонком льду в отделе этики”, и заключил: “В своем стремлении донести до телезрителей что-то лучшее, чем бессмысленная папарацци, ABC, возможно, выпустила что-то бесконечно более опасное.”[43] Менее скептический, но все еще отстраненный обзор Scared Silent также появился в 1992 году. Сбитый с толку рецензент сказал своему маркетологу, что программа содержит несколько “мифов”, таких как "насилие порождает насилие," об инцесте хорошо известно, и естественные родители являются обычными нарушителями при инцесте (Шапиро, 1992). Вышедший с опозданием “специальный репортаж” (Армбристер, 1994) подробно описывал преследование 14-летнего Бобби Файнье, помощника по уходу за детьми, попавшего под поток рассказов и обвинений со стороны дошкольников. В статье говорилось о неправомерном поведении судьи Норман С. Герштейн, наряду с обычным составом одержимых социальных работников и прокуроров из офиса генерального прокурора штата Флорида Джанет Рено. Указано, что ответственными за создание почти катастрофического ажиотажа были СМИ Майами Ньюс, особенно сенсационное использование этого дела репортером WCIX-TV (CBS) Жизель Фернандес.
Рассмотрев многочисленные случаи предвзятости СМИ во время судебных процессов над Макмартином, Эберли задались вопросом: “Могли ли все люди в средствах массовой информации быть настолько одинаково глупыми?” (1993:354). Ну, опять же, да. Я уже высказывала свое мнение об институционализированном невежестве в информационных институтах культуры, но важно напомнить, что бизнес нанимает журналистов не за их критические способности, самосознание или социальную сознательность, а за их способность успешно манипулировать культурными клише и рекламировать себя как заслуживающих доверия личности, чтобы сохранить лояльность к рынку, предоставляя развлечения, которые привлекательны и в которые верят потребители. Именно так захватываются доли рынка для обеспечения главного интереса: доходов от рекламы. Из-за их сомнений в том, что было реальным, а что нет, общественное мнение и доверие к популярным средствам массовой информации в течение десятилетия, по-видимому, были неоднозначными, а опросы общественного мнения показывали разный уровень принятия. В целом, общественное доверие к большинству крупных культурных учреждений было довольно низким (Gilbert 1988:15). Опросы Гэллапа показали, что более высокий уровень доверия к газетам снизился с 51% населения до 35% в 1980-х годах. Однако опрос средств массовой информации Аналитический проект Университета Джорджа Вашингтона показал, что в 1986 году “не было кризиса доверия к национальным средствам массовой информации” (Anonymous 1986c); 79% сказали, что работники СМИ “заботятся о качестве своей работы”, 72% сказали, что СМИ “высокопрофессиональны”, 55% верили, что СМИ “излагайте факты прямо”, а 54% считают, что средства массовой информации “нравственны, как и следовало ожидать, этот опрос получил больше публичности, чем другие, демонстрирующие более низкий уровень доверия. Большинство людей доверяли телевидению в своих новостях, и в течение 1980-х годов страна хотела видеть больше историй о семьях, морали и Боге (Гилберт 1988: 231). На самом деле они были поглощены этими темами более десяти лет, воплощенными в рассказах о сексуальном насилии над детьми. Некоторые критики того времени были менее доверчивы. Некоторые отметили очевидные сдвиги в индустрии новостей в течение 1980-х годов, когда журналисты в большей степени придерживались взглядов администрации Рейгана на мир, и в так делание стало менее критичным, стало больше полагаться на официальные источники и цифры экспертов и отдавало предпочтение консервативным личностям и интерпретациям (Бойлан 1986, Герцгаард 1988).
1980-е годы ознаменовались расцветом “реалити” и “таблоидного” телевидения. Стал популярным стиль представления, в котором заметное место заняла реальная или имитированная документальная фотография (в виде ручных или скрытых камер) и чаще использовались драматические трактовки реальных личностей в форме жанровых стереотипов. Журналистские расследования прославили себя разоблачениями, которые становились все более масштабными, конфронтация с репортерами, выдающими себя за моральных героев. Такие шоу, как A Current Affair, 20/20 и другие, изначально были популярны, но позже начали приходить в упадок (Zoglin 1988a, 1988b). В основном по экономическим причинам около половины таких шоу были отменены к концу 1993 года; исполнительный директор Fox Network объяснил, что его телеканалу было “трудно продавать реальность” (Anonymous 1993c). Полицейские шоу “реалити”, в частности, стали визитной карточкой 1980-х годов, такие как "Копы" и "Реальные истории дорожного патруля" оставались популярными и в 1990-х, как и такие шоу, как "Нераскрытое", "Тайны" и "Самый разыскиваемый в Америке", которые поддерживали предприимчивого линчевателя, столь популярного в то время. Разработка шла параллельно с расширением постановочных шоу, таких как "Джеральдо" или "Шоу Опры Уинфри". Термин “информационно-развлекательный” стал еще более популярным и принят в качестве описания того, что появлялось на телевидении и в газетах. На протяжении всего периода больше внимания уделялось жанровым развлечениям, стереотипной персонализации и эмоциональному вовлечению с использованием страха, ненависти и жалости (с акцентом на слезы). Эстетические критерии определяли новостные характеристики людей и событий.
Даже некоторые представители бизнеса начали испытывать беспокойство по поводу все более расплывчатой границы между вымыслом и реальностью (Zoglin 1988a, Baer 1992), как будто это было что-то новое. На самом деле это всегда было характерной чертой отрасли с самых первых дней ее существования. Политические потрясения конца 1950-х и 1960-х годов вынудили журналистов к более социально ответственному и правдивому освещению событий, а завышенная самооценка журналиста как героя сохранялась с 1970-х годов на протяжении последующих десятилетий. Однако главным критерием оставалась зрелищность, и репортеры продолжили свою традицию создавать захватывающие драмы. Для научной литературы это означало изобретение диалогов, событий и даже персонажей для создания хорошей истории.[44] Жанр настоящего преступления, инсценировка почти всех случаев сексуального насилия над детьми, был особенно восприимчив. Представление субъективных состояний добавляло легитимности и авторитета. Решающее значение в дебатах имела правдивость заявлений (которые могли быть представлены как мысли), заключенных в кавычки.[45] После того, как Джанет Малкольм (1983a, b) представила теории Джеффри Массона о сокрытии Фрейдом сексуального насилия, он подал иск о клевете в конце 1984 года против Малкольм, журнал "Нью-Йоркер" и "Кнопф" в иске подняли на поверхность критику журналистской практики и связали ее с проблемой сексуального насилия над детьми. Массон сказал, что его неправильно процитировали и что цитаты были вырваны из контекста, чтобы выставить его эгоистичным и нечестным. Он заявил о вторжении в частную жизнь, поскольку, по-видимому, не знаком с журналистикой, статьи должны были быть на его исследования, а не его личность и частную жизнь. Несмотря на то, что Малкольм взял в кавычки заявление, которого Массон никогда не делал, судья вынес решение в пользу Малкольма и других обвиняемых. В 1991 году решением Верховного суда было разрешено изменять заявления при условии, что “смысл” не меняется; кроме того, Суд проявил к журналистам больше снисходительности, чем к авторам книг. Решение просто подтвердило и укрепило давнюю практику. Консультируя авторов по вопросам законодательства несколько лет назад, Голдфарб и Росс отметили, что продюсерам новостей — это разрешено, удовлетворять любопытство публики относительно ее героев, лидеров, злодеев и жертв, а также тех, кто тесно связан с ними” (1989:133). Вся это честная игра, и авторы далее сообщили, что “допустимо ограниченное количество неточностей, беллетризаций и даже выдуманных диалогов” (стр. 138). Это подтвердил Дэвид Каплан из Newsweek, когда сказал, что “журналисты обычно должны сокращать суть цитаты” (1991:49). Те, кто критиковал журналистское поведение, жаловались не на исключительные практики, а на нормальное функционирование и маркетинг.
Самая ранняя критика была явно политической, и на протяжении всего периода те критики, которые выступали и чьи работы действительно проходили через редакционные фильтры, иногда предлагали комментарии об общей политической ситуации, с которой была связана истерия. Большинство критиков были леваками разного толка или либералами, которые видели причину паники в консервативных религиозных и светских идеологиях. Буллоу видел, как “антифеминистки” использовали истерию в своих целях (1985). Эльштайн считал, что кампании по жестокому обращению с детьми были нападением на нетрадиционные формы семьи (1985). Векслер думал, что “миф о бесклассовости” (“они могут быть кем угодно и где угодно”) отвлекает внимание от экономических основ жестокого обращения и безнадзорности. Натан указала на “правых семейных моралистов”, но правильно заметила, что либералы и феминистки были одинаково ответственны и сотрудничали со своими традиционными врагами в поддержке и распространении паники (1987: 23, боковая панель). Менее равными, менее заметными, но, возможно, более восторженными были те критики правых; они были одними из первых, кто выступил с популярной критикой. Wooden свидетельствовал комитету Палаты представителей США, что “национальная паранойя растет, и армия шарлатанов, спасающих детей, марширует по недавно вспаханной почве родительских страхов.”[46] Карлсон назвал социализм, либерализм, феминизм и гомосексуальность основой истерии, все из которых нападали на “традиционные ценности” с “антисемейной идеологией.”[47] Хотя она сказала, что раньше принадлежала к "крайне левому крылу феминистского лагеря" (1986:34), Прайд критиковала проблемы с точки зрения религиозных правых. По ее мнению, индустрия жестокого обращения направлена против семьи, против религия и релятивизм. Она сказала, что причина, по которой так много молодежи “невольно оскверняются” в возрасте до 18 лет, заключается в том, что популярная культура поощряет “блуд” (стр. 25, 37). В целом, по ее словам, "истерия по поводу жестокого обращения с детьми - это самодовольное прикрытие антидетских настроений" (стр. 140, курсив в оригинале), свидетельством чего является множество фильмов и книг о “детях-монстрах”, начиная с “шестидесятых,” период вызывавший особое отвращение у консерваторов. Как и Карлсон, она рассматривала аборты и “порнографию” как жестокое обращение с детьми. Они поощряли секс без продолжения рода, помимо “обычного секса между мужчиной и женщиной”, пропагандирующего секс “с кем угодно или с чем угодно”, что делает детей вероятными мишенями (стр. 147, 141).
Критика религиозных лидеров была редкостью как для правых, так и для левых, хотя многие священнослужители много говорили о сексуальном насилии над детьми. Барри рассказал, как британские религиозные лидеры отказались обсуждать этот вопрос с ним или с кем-либо еще, если уж на то пошло, некоторые жаловались, что занимать любую позицию, отличную от осуждения, - это “пропаганда”. К концу 1980-х годов ряд евангелистов, наконец, оказались шарлатанами, коррумпированными или просто людьми. Их насмешки позволили больше критиковать героев борьбы со злоупотреблениями, некоторые из которых уже упали со своих пьедесталов.
III
Первой была Джудианн Денсен-Гербер, уличенная в злоупотреблении средствами своего учреждения и, как говорили, в халатном обращении с юными обитателями дома Одиссея (Комиссар, 1979). Сенсационные выступления детектива из Лос-Анджелеса Ллойда Мартина и завышенная статистика (и, возможно, внутрифирменное соперничество) в конце концов привели к его увольнению из полиции ("Любовь", 1982). Весьма громогласная глава Texas Child Search, Inc. Кэролин Хюбнер была обвинена в попытке заключить контракт на убийство своего мужа; было установлено, что ее статистику подвигов и жестокого обращения, включая ее собственную историю жестокого обращения, проверить не удалось.[48] На раннем этапе ряд групп по спасению детей подверглись проверке на предмет незаконной или неэтичной деятельности. Компанию Child Find, Inc. из Нью-Платца, штат Нью-Йорк, обвинили в невыполнении обещанных услуг и в преувеличении статистических данных; другие организации обвинили в получении откатов за рекомендации (Blumenthal 1984, Anonymous 1984g). Гратто и Гибсон (1985) пошли дальше в своей критике и перечислили в разбивке по организациям мошенничество и эксплуатацию страха в “пропавших детях”; они сказали, что продукты и услуги, которые должны защищать детей, играют на беспокойстве родителей и граждан. Их статья включала иллюстрацию на обложке брошюры компании Missing Children Information Services, Inc. Из Лексингтона, штат Кентукки, на которой изображена “полуобнаженная девушка с синяком под глазом, прикованная к раме кровати”, тщательно инсценированная с использованием дочери чиновника компании.
В конце 1980-х и начале 1990-х годов разоблачение преподобного Брюса Риттера было сосредоточено на рассказах о его сексуальных контактах с некоторыми мужчинами-подростками, которые приходили к нему в гости, широко рекламируемый shelter, Covenant House.[49] Дело Риттера было достаточно сенсационным, но, хотя многие признали выдвинутые против него обвинения, в конечном итоге они обвинили “вседозволенность”. Некоторые пошли дальше и попытались использовать события для продолжения атак на обычных врагов. Клинический социальный работник и психотерапевт Пол Уоллер сказал: “Отцу Риттеру и его сообщникам было предоставлено прикрытие широко распространенной либеральной терпимостью и рационализацией гомосексуальной педофилии и педерастии гомосексуалистов.”[50] Падение в конце 1980-х годов Чарльза Китинга-младшего за его преступную финансовую деятельность мероприятий, способствовали более критическому взгляду на агитаторов против жестокого обращения и порнографии. Энергичный критик доклада Комиссии по непристойностям и порнографии 1970 года, Китинг сыграл важную роль в цензуре эротических СМИ через свою группу "Граждане за порядочность через закон" (CDTL), а также за возвышенный тон, оправданный защитой детей, с помощью которого он продвигал себя и свои идеи.[51]
Другой популярный профессиональный эксперт по делам молодежи и спаситель детей, психиатр Бруно Беттельхайм, подвергся физическому и эмоциональному насилию. Сразу после его смерти было написано несколько поминальных статей, например, в Chicago Tribune, издании, которое позиционировало себя как пионер в искоренении жестокого обращения с детьми,[52] и в статье обеления в популярном социологическом журнале (Fisher 1991). Однако как только они появились, было опубликовано несколько писем и статей от тех, кто пострадал от правления Беттельхайма. Пеков (1990) учился в школе Беттельхайма с 11 до 21 года против своей воли, а Ангрес (1990), которого избивали в школе, сказал, что многие знали о его “терроре”, но никто не помог, и многие скрывали это. Женщина написала, чтобы рассказать о том, как подросткам в его ортогенической школе не разрешали покидать учебное заведение, и как ее вытащили за волосы из душа и избили на глазах у ее соседей по общежитию; другой автор письма выступил свидетелем, подтвердив это событие.[53] Вместо того, чтобы поверить Детям (доктрина все равно была в целом отвергнута), Дэвид Джеймс Фишер из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, отделение психиатрии и Лос-Анджелесский Психоаналитический институт презрительно и злобно отклонил письма от Жертвы Беттельхайма. Редактор журнала Ирвинг Луис Горовиц бросился защищать профессиональную репутацию и “профиль” Беттельхайма, составленный Фишером. И Фишер, и Горовиц задавались вопросом, почему критика не выходила в эфир, когда Беттельхайм был жив, очевидно, не зная социально-исторической ситуации, которая защищала профессиональную неприкосновенность и практику, поощряла любую деятельность, если она осуществлялась под эгидой “терапии” и спасения детей, клеймила или заставляла замолчать критику и направляла карательное внимание на фигуры со стороны.
Одним из способов выражения критики в тот период была сатира. Частью насмешек конца 1980-х годов был дискредитированный герой. В скетче комедийной труппы 1992 года “Почти вживую!” рассказывалось немного о падших звездах 80-х, снятом в качестве рекламы серии торговых карточек. Большинство фигур на карточках были политическими или финансовыми деятелями (обещана бесплатная карточка Рональда Рейгана), но была доступна специальная серия “Неряшливый евангелист”. После публикации в 1740 году "Памелы" Ричардсона, романа, в котором преследуемая девушка была закреплена в качестве жанровой роли, в 1741 году довольно быстро появилось несколько сатир, создающие жанр “анти-Памелы”. Сатиры на виктимность содержат два основных потока критики, один из которых сексистский по своей сути, призванный принизить или отрицать жестокость, причиняемую женщинам мужчинами. Другая - более аутентичная сатира, язвительная по отношению к преувеличенным или выдуманным страданиям, та сатира, которая всегда направлена на претенциозное позерство.
Использование традиционных образов для эмоционального манипулирования и идеологической эксплуатации взрослых и детей стало достаточно скучным, чтобы стать комедийным материалом к середине 1980-х. Важно отметить, что сатира касалась не только жестокого обращения изображений, но также и журналистской практики. Радиоведущий Иэн Шоалес был одним из первых в основных средствах массовой информации, кто высмеял индустрию развлечений со своей программой “Щелкнув циферблатом”, вышедшей в эфир в декабре 1984 года (Шоалес 1985: 148). Кинорежиссер Джон Уотерс, считавшийся знатоком и продюсером эпатажа, рекомендовал (“если вы хотите увидеть по-настоящему жуткое”) заглянуть в детский сад Макмартина во время своего турне по Лос-Анджелесу в 1985 году.[54] Карикатурист Berkeley Breathed (1988:73) запоздало высмеял страх перед “пропавшими детьми” в округе Блум полоса за 21 ноября 1987 года. Младший журналист Майло спрашивает своего редактора, помнит ли он “все наши сенсационные, вызывающие панику истории о Великой детской Эпидемии”, сообщая редактору, что “НА САМОМ ДЕЛЕ ЕЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО!” “Великий Скотт!” - восклицает потрясенный редактор. “Внесите поправку под расписанием заголовков на странице 109!” Мусто (1988), рассказывая о развлечениях в Нью-Йорке, упомянул вечеринку с “детской порнографией” в клубе Danceteria, где клиенты покупали свидания с шестнадцатилетними подростками на игровые деньги.
В начале 1990-х карикатуристы чувствовали себя более смелыми в съемках. То в мультфильме Скотта Адамса “Дилберт” от 3 октября 1992 года Догберт спрашивает Дилберта, был ли у него когда-нибудь странный сон или кровотечение из носа. Мужчина отвечает утвердительно, и собака говорит: “Ясно, что ты подавляешь воспоминания о том, как тебя похитили инопланетяне”, и предлагает использовать гипноз, чтобы восстановить воспоминания. Мужчина спрашивает: “Что, если сам гипноз заставляет меня думать, что это произошло, когда этого не было? Надо мной будут смеяться всю жизнь”. Собака отвечает: “Это риск, на который я готов пойти”. В эпизоде “Запределья дышащего" Опус признается, что "я жертва, преследующая других жертв словесной виктимизации.”[55] Кэлвин Билла Уоттерсон говорит Гоббсу, что “я ни в чем не виноват”, затем пробегается по словарю современной теории (“дисфункциональный”, “не самореализовавшийся”, “аддиктивная, токсичная созависимость” и т.д.). Со своим обычным самодовольством говорит, что мне нравится культура жертвы.[56] На карикатуре Пита С. Мюллера изображен мужчина со сжатыми кулаками, сидящий верхом на мужчине на земле, который говорит, сдавайся: “Хорошо! О'Кей! Ты жертва!”[57] Начиная с середины 1980-х годов в целом наблюдалось возрождение клубной комедии, с появлением комедийного канала на кабельном телевидении появилось множество стендап-комиков и комедийных клубов, а также увеличилось производство не только традиционных детских мультфильмов, но и мультфильмов для взрослых. Благодаря этому все больше и больше священных изображений и икон 1980-х годов становились объектами сатиры. В середине 1991 года Suspicience Productions из Боулдера, штат Колорадо, выпустила пакеты открыток “Вы видели меня?”[58]
По мере развития 1990-х годов в популярных СМИ появилась более осторожная критика. В то время как Гарднер (1993) отказывался видеть недостатки в современных концепциях “сексуального жестокое обращение” или “педофилия”, он утверждал, что виновата вся система. Хотя он снова сослался на “охоту на ведьм”, он неверно оценил ситуацию, начавшуюся в начале 1980-х, вызвав “третью великую волну истерии.”[59] Более резкая критика была высказана Рабинович в ее обзоре снятого для телевидения фильма об инцесте. “Не в моей семье” (1993), за который она получила свою премию "Подхалимство без ограничений". Фильм показал появление долго подавляемых воспоминаний о сексуальном насилии. Хотя у нее, похоже, не было никаких сомнений в отношении современных негативных представлений о сексе между молодежью и взрослыми, она назвала атмосферу истерией и бредом, связав образы фильма с традиционными жанрами развлечений и более конкретно с продвижением и принятия современных текстов о самопомощи “внутреннему ребенку” и психотерапевтам.
Другие оставались неубежденными или сбитыми с толку, такие как Картрайт, который рассматривал истерию как “мифическое выражение глубоко укоренившейся тревоги по поводу сложных изменений в семье и ценностях” (1994: 152). Несмотря на свой критический подход, он не мог заставить себя полностью усомниться в сатанинских обвинениях. Виктор выражал как классические либеральные взгляды, так и версию социологии 19 века, когда оправдывал “рациональных и порядочных людей”, борющихся с “проблемами повседневной жизни” (1993: 226). Натан и Снедекер (1995; ix) считали, что к началу 1990-х годов критика истерии стала “модным". Это было верно только в отношении вопросов “ритуального насилия” и в меньшей степени в отношении “пропавших детей”. Секс между взрослыми и молодежью все еще преследовался (изобретенный некоторыми в схемах заманивания в ловушку) и преследовался со всей “восстановленной памятью", порочностью, начатой в 1980-х годах. Когда обвинительный приговор Келли Майклс был отменен по апелляции,[60] одна обозревательница вернулась к определенности и простоте 1980-х годов. Она признала, что в обвинениях в сексуальном насилии над детьми “замешаны все...нужно было действовать с необычной степенью изощренности и осторожности.” Но она решительно отвергла эту аналогию с судебным процессом. Игнорируя накапливающиеся свидетельства профессиональных проступков и коррупции, а также популярные исторические традиции, она категорически заявила, что идея была “дешевой и легкой метафорой, которая подразумевает злобную истерию” (Quindlen 1993). Слушая, как его репортер документирует несправедливость судебных процессов о жестоком обращении в детских садах, ведущий Хью Даунс из 20/20 (“Правда на суде”, 8 сентября 1995 г.) спросил, закончилась ли “охота на ведьм”, и, успокоенный утвердительным ответом репортера, удобно забыл о своем собственном шоу 1984 года о детском саде Макмартин, которое помогло создать такое же хищническое безумие.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Разнообразие мотивов, аффектов и поведения, которые приводят молодежные и немолодые отношения к физическому выражению, настолько сложны и запутанны, что научная работа в области гуманизма, скорее всего, будет в беспорядке в течение некоторого времени. Будет проще, безопаснее и выгоднее продолжать оправдывать культурную практику и, защищаясь, размазывать контакты, действующих лиц и отношения широкими мазками однотонного герметика. Интересы церкви и государства поддерживают это благодаря возвращению к медицинской криминалистике 19-го века, концептуализациям, охотно подкрепляемым и эксплуатируется заведениями популярных развлечений. Но в некоторых кругах развитие методологий исследования секса продолжается, чтобы придать более полное выражение направлениям, заложенным в начале 1960-х годов, - это возрождение, возникающее в результате продолжающегося гниения умирающей концепции “сексологии”.
Детская сексуальность, по-видимому, является следующей плодородной почвой, на которой могут вырасти профессиональные карьеры. В патерналистской и авторитарной культуре изучение этих желаний и моделей поведения требует незначительных изменений в личных и социальных представлениях о следователях и экспертах, и может позволить легко сохранить почти все существующие системы власти и контроля, которые сейчас очерчивают и закрепляют определения понятия “ребенок". Как и на протяжении более века, интересы дисциплины и приручения обещают определять официальную информацию и доминировать над ней.
То же самое и с исследованиями зомби 19-го века, “педофила”. Наука в контексте культуры, все еще борющейся с дихотомией “гетеросексуал-гомосексуалист”, имеет мало шансов или мало интереса к разработке концепций и метода исследования, которые могли бы предложить что-то разительно отличающееся от безопасности дизайна и самовыражения, теперь так красноречиво и отчаянно востребованы профессиональными сообществами. Задача изучения этих характеров и отношений требует просто начать все сначала, пойти на интеллектуальный, эмоциональный и материальный риск, выходящий за рамки относительно высоких уровней, обычно требуемых в американской культуре. Вдобавок к обычной профессиональной политике, личностным спорам и научным причудам, угрозы со стороны полиции и прессы продолжают отвлекать и препятствовать сбору и распространению информации, подготовки текстов, а также расследование и документирование сексуальной жизни. Общественные силы, равнодушные к эмпирическим доказательствам и незаинтересованные в них, продолжают накапливать законодательство и прецедентное право, которые препятствуют или ограничивают добросовестные исследовательские усилия и криминализируют разнородное личное и социальное поведение (на момент написания этой статьи апелляционный суд объявил, что подростки “не имеют конституционного права на секс”). Приверженность работе продолжается.
Примечания
ГЛАВА 1
1. Аноним 1984с; Гилфой 1985. Смотрите также горькое и гневное письмо Лавленда (1985) к Майклу Дукакису, тогдашнему губернатору Массачусетса.
2. В Риме некоторые женщины выходили замуж в 12 лет и считались взрослыми к 14. Мужчины переходили из детства во взрослую жизнь где-то с 14 до 16 лет, и иногда пожилая женщина брала молодого человека в период полового созревания в качестве любовника, чтобы “инициировать” его (Veyne 1987: 20ff).
3. Озмонт, 1983. Отношение к таким юным людям как к взрослым может свидетельствовать об эгалитарном отношении или общем пренебрежении. Во время долгих и жестоких христианских войн Реформации, детей подвергали пыткам и убивали во время теологических споров и даже употребляли в пищу во время голода. См. Kunzle 1973:81, рисунок 3-1, passim, Hufton 1974.
4. Морган 1942; Фарбер 1972:59. Половой акт с девочкой в возрасте десяти лет или младше был тяжким преступлением в пуританском обществе 17 века, преследуемым в соответствии с более широкими законами против "содомии”; секс с женщинами старшего возраста мог преследоваться по обвинению в изнасиловании (Thompson 1986: 74f). По-видимому, в период индустриализации и урбанизации 18-го и 19-го веков, во время которых имело место больше реальных злоупотреблений в разрозненной рабочей среде с подростками. К тому времени люди в возрасте 12-17 лет обучались меньшему количеству реальных профессий и навыков, и развернулась активная работорговля “лишних” детей (т.е. бедных и незаконнорожденных), санкционированная экономическими и религиозными лидерами (Миттерауэр и Сидер 1982: 107).
5. Идеалы здоровья стали более выраженными в последней половине 18-го века и сохранялись на протяжении всего 19-го, что сопровождалось развитием городов и необходимостью борьбы с болезнями; здоровье стало привязываться к идеям прогресса и роста, физической красоте, личному характеру и специфическим религиозным взглядам. Реклама, ориентированная на женщин и пропагандирующая удаление волос на теле как необходимое условие “чистоты", появилась в 19 веке, а в 20-м расширилась, сначала пропагандируя отвращение к волосам подмышками (1915-1920), затем (1920-1940) волосы на ногах (Хоуп, 1982); депиляция сделала взрослых женщин более педоморфными.
6. По-видимому, произошло то, что брак, вызванный короткой продолжительностью жизни, позволил молодым людям и подросткам среднего возраста начать (если они еще этого не сделали) разрешенную сексуальную (репродуктивную) активность. По мере увеличения продолжительности жизни и более длительного пребывания молодежи в школе и дома допустимый возраст социосексуальной активности и вступления в брак перешел в поздний подростковый возраст или даже за его пределы. Сексуальные способности дошкольников и молодых подростков оставались физически стабильными, и, скорее всего, эротические интересы в этом возрасте также оставались довольно постоянными, но самовыражение было запрещено (как деятельность и как репрезентация). Расцвет “лолитаизма” был в значительной степени результатом этого подавления.
7. Спэкс отмечает, что теории развития имеют больше общего с “реалиями общественной власти”, чем с неизбежными внутренними программами биосоциального прогресса. Размещение, авторизация и осуществление власти упрощается и осуществляется одновременно с построением теории; “наша психология подтверждает нашу социологию”, - справедливо замечает она (1981: 290).
8. Демос 1986:96. Термины “подросток” и “половое созревание” тесно связаны с биологическими референтами. Более популярный термин “подросток” вошел в обиход во время Второй мировой войны и несколько далек от репродуктивных способностей (особенно у женщин), больше относясь к социальным и культурным значениям. Популярные обозначения “подростки” часто включают в себя малолетних детей.
9. Вейн 1987: 23f. Группы детей дошкольного возраста и подростков, свободно передвигающихся по стране, иногда встречались в Европе, особенно после потрясений, вызванных войной или болезнями; большинство из них происходили из более бедных слоев населения с 14-го века по конец 17-го (Hufton 1974: 27ff). Группы бездомных детей и детей, оставшихся без попечения родителей, стали обычным явлением во многих городах Южной Америки, Африки и Азии.
10. Этот период был отмечен повышенной чувствительностью к визуальным образам и их воздействию на тело, особенно эротическому, при котором наблюдался “страх созерцания образа женщины” (Камилла 1989:308). Сильная сентиментальность указывает на страх перед определенными образами, скрытыми за обожанием.
11. Килблер-Росс I985: xvii, 96, приятная круглая цифра, типичная для статистики 1980-х годов. В 1994 году Фонд защиты детей объявил, что 50 000 детей в год погибают от огнестрельного оружия (Cable News Network, 20 января), тема вреда, причиняемого детям, переходит к проблемам оружия в школах, насильственных преступлений среди несовершеннолетних и необходимости цензурировать насилие на телевидении.
12. См. Маколей 1953, Джексон 1980. Жанры “брызг” 1970-1980-х годов тесно связаны с этим, а журналистика всегда подчеркивала подход к кризисам и стихийным бедствиям. В 1987 году я обратил внимание на выставленный на продажу видеоролик под названием “Впечатляющие катастрофы!" с красивым рекламным заголовком "Кавалькада бедствий, которые Возбуждают и ужасают”. В 1990-х годах телевизионная сеть Fox прославилась своей серией специальных выпусков “реалити”, посвященных “Самым зрелищным полицейским погоням в мире”, “Самой зрелищной полиции в мире". Перестрелки”, “Когда нападают животные”, “Когда нападают животные. Часть II” и т.д. В середине 1990-х годов к таким произведениям применялся термин “новостной репортаж”.
13. Отчасти об этом свидетельствует растущее появление детского лепета в литературе (Эйвери, 1965) и его поощрение в качестве соответствующего родительского дискурса, распространяющегося на женщин, которые одновременно были инфантилизированы. Это продолжалось и в 20 веке, проявляясь в качестве языка Бетти Буп, Мэрилин Монро и других.
14. Эйвери 1965: 179. Возможно, именно это имел в виду Фидлер, когда говорил о таких фигурах как “монстры добродетели... [символ] неприятия или страха сексуальности” (1966:24). Они монстры, не только потому, что они преувеличены и гротескны, но также и потому, что подтекст, страх перед сексуальным ребенком, сквозит в громких заявлениях того, что дети несексуальны, не могут давать согласия, не лгут и так далее.
15. Большая часть литературы для детей содержала обширные дозы “расового самосознания, ксенофобии и империализма” (MacDonald 1974), которые помогли сформировать у детей представление о себе как о потенциальных жертвах.
16. Сама идея колдовства требует проведения следственных процедур, потому что ее так трудно доказать в обычном смысле. Существовавший в те времена юридический прецедент, запрещавший давать показания несовершеннолетним, был отменен специально для случаев колдовства, аналогично отмене конституционных гарантий, достигнутых в 1980-х годах, когда предполагаемым жертвам сексуального насилия разрешалось давать показания через посредников.
17. Мастерс (1962:68) говорит, что за это были казнены тысячи людей, некоторым было всего 3 или 4 года, если вы простите журналистскую формулировку.
18. Монтер 1976: 127; 1969:13. Смотрите также Мидельфорт 1972: 144; 25% немецких казней казнили детей (стр. 182). Хейл рассказывает об известном инциденте, когда детей раздевали догола и публично избивали на ступенях церкви (1947:26).
19. Сангстер 1963: 146. Шорш (I979:21ff) также обнаружил ряд самоубийств среди 12-14-летних в 17 веке.
20. Идея унаследованного греха сохраняется, иногда появляясь в неожиданных местах. В 1970 году феминистка Робин Морган вспомнила, как чернокожую девочку слишком рано забрали из больничного инкубатора, потому что родители не могли оплатить дополнительное время. Затем она смотрит на своего играющего младенца и восклицает, “крошечные ручки моего белокурого младенца мужского пола уже запятнаны нежной кровью его маленькой черной сестренки!” (1977:143).
21. Треть молодежи фактически умерла бы в возрасте до 21 года от дифтерии, скарлатины, кори, коклюша, эпидемического паротита, натуральной оспы, желтой лихорадки и гриппа; прививки (которым первоначально сопротивлялись духовенство и врачи) всерьез начали делать только в середине 18 века.
22. Марч 1954. Фильм по роману был выпущен в 1956 году. "Повелитель мух" Голдинга появился в 1954 году.
23. Книги, названные наиболее ответственными за это, включают "Изгоняющего дьявола" Блэтти (1971; фильм 1973), "Семя демона" Кунца (1973; фильм, 1977), "Маленькая девочка, которая жила дальше по переулку" Кенига (1974; фильм, 1977), "Джулия" Штрауба (1975), "Деймон" Клайна (1975), "Знамение" Зельцера (1976; фильм 1976 и сиквелы) и "Страющие дети" Сола (1977).
24. Келлерман 1985:76. Он предполагает, что акулы, змеи и другие “скользкие, ядовитые твари, которые прячутся в иле”, являются “злом”. Аналогичным образом, в своем отчете о сексуальном насилии Томас перенес нас в сознание агента О'Мэлли, когда тот размышлял о возможных биологических корнях нынешней угрозы цивилизации: “все это было частью новой эволюции, в которой зло обладало собственным метаморфическим разумом, который расползался по миру, втаптывая его в грязь” (1991:49). Сравните это со сценарием Эйсли в Главе 7.
ГЛАВА 2
1. Детский секс в автобиографических отчетах - интересный, но неисследованный источник. Милгрэм и Скьярра (1974) имеют более старые тексты; Портер и Уикс (1991: 47f, 57f, 138) и Бейкер (1994:21-75) являются образцами будущих возможностей. Пикано (1985) - замечательный пример того, что ценно; позже (1993) он упомянул, что его свидетельства вызвали враждебную реакцию издателей и рецензентов. Смотрите также Moore 1984: 210-229.
2. Предупреждение о защите детей 10(9), стр. 3. Это чрезвычайно интересное замечание, последствия некоторых из них были поспешно объяснены, а фактические данные, примеры которых я видел, были утаены от изложения и анализа. Эти артефакты, как и визуальные эффекты, чрезвычайно расстраивают тех, кто создал фантазии о детской невинности, и/или тех, кто испытывает сексуальное беспокойство.
3. Голден (1990:96). Возможно, изображение было непристойным для аудитории того времени, но наше понятие “порнография” не встречается в классической Греции, и этот эпизод не вызвал бы морального негодования, типичного для золотой и христианской культур. Учитывая тот факт, что на момент написания этой статьи, хранение того, что называется “детской порнографией”, является уголовным преступлением, кажется довольно неосторожным называть “детской эротикой”, каким бы благовидным ни был этот термин.
4. Чарльтон 1984: 151. Однако взгляд на картины показывает, насколько субъективно восприятие сексуального; картины не кажутся ни неприятными, ни чувственными.
5. В Bade 1979:30. Бейд также показывает использование иллюстраций "Роковой женщины" в детских книгах конца 19-го и начала 20-го веков.
5a. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Lenbach%2C_Franz_von_-_Family_von_Lenbach_-_Google_Art_Project.jpg
6. Уилсон 1988; более широкий взгляд на отверженных см. Янг 1966. Еще одно изобретение - 19-го века “геронтофилия”, сексуальный интерес к лицам значительно старше себя, хотя я никогда не видел, чтобы это применялось клинически к молодежи, интересующейся сексуальными партнерами старшего возраста. Поступить так означало бы приписать молодежи застенчивое желание, его последствия автономии невыносимы для мира взрослых.
7. Уолвин (1982: 135-148) видит в движении стремление к “эксплуатации”; Экардт, Гилман и Чемберлин (1987: 239) говорят, что “детская порнография” была прямым результатом “культа”; а Джордан (1987: 270f) пренебрежительно отзывается о “приверженцах”, “жеманничающих над нимфами”. Кинкейд (1992) предоставляет много соответствующей справочной информации, но слишком легко полагается на старые образы и теории; его восприятие истерии 1980-х годов является точным.
8. Кинкейд (1992) содержит ряд ссылок. У Тимоти д'Арч Смита (1970) есть литература о любви к мальчикам того периода, а некоторые тексты о женщинах были собраны в брошюре Аристоффа (1992). Так называемый “культ” все еще нуждается в большом количестве серьезных комплексных исследований. Когда анализируется популярная культура “педофилии”, одним из направлений, заслуживающих внимания, является аналогичная одухотворенность ребенка. Влюбленные в мальчиков могут обратиться к классическим греческим образам и поэзии или средневековым суфийским традициям, которые поощряют духовное празднование эротического единства бытия (как и современные изменения благодаря замечательной энергии Хаким Бея (1993). Поэты-любители девочек и эссеисты могут быть такими же слащавыми.
9. Фотографии должны были быть воспроизведены здесь, но после отказа одной типографии из-за боязни судебного преследования, а также после консультаций с фотографом и юрисконсультами я удалил картинки. Возможно, в более просвещенные времена этот очаровательный и ценный набор можно будет сделать доступным. Это должно быть по историческим причинам, отмечается, что с начала 1980-х годов, особенно для тех из нас, кто занимает маргинальное положение, при разработке, исполнении и презентации исследований, письменных работ или других творческих работ необходимо было учитывать риски, связанные с арестом, конфискацией имущества и судебным преследованием со стороны государства, а также стигматизацией и подстрекательством к самосуду из-за деятельности журналистов.
10. Коэн (1984) - один из немногих, кто пытается напрямую обратиться к предполагаемой педофилии Кэрролла (Томас 1983); "Лолита" Набокова, несмотря на все, что о ней написано, не была отнесена к таким обсуждения. То, возбуждает человека определенный образ или нет, вытекает из средневековой христианской теории, в которой... чистота восприятия - это форма духовного классового самосознания, которая делает изображение арбитром способности зрителя созерцать его; ”просмотр был “испытанием образами", - отметила Камилла=(1989: 205). Приемлемое изображение открывало Бога только тому, кто был безгрешен; те, кто был грешен, были заперты в самом изображении, и созерцание стало идолопоклонством. Изображения остаются артефактами морали, подлежащими правовому и политическому регулированию (стр. 341).
11. Вандеркнифф, 1991a. В последующем (1991b) описывались дебаты среди художников, охваченных истерией. Подобно ученым и другим профессионалам, художники хотели исключений из закона только для себя. Никто не предлагал подвергнуть сомнению и отменить законы, и никто не признавал родства и союза между “художниками” и “порнографами”.
12. Анделин 1965: 179-205. Морган рекомендовала подобные костюмированные представления в своих семинарах и книге “Total Woman” (1973:95).
13. Аноним 19931. К 1995 году, однако, произошел отход к более консервативной позиции. Статья Брайсон (1995) с сопроводительным фоторепортажем предлагала контрасты, удобно обозначенные как “Слишком молодая” и “Слишком старая”. Сообщалось, что женщины из старших классов и колледжей были покупательницами, и хотя “Самое модное - это надутая, заряженная гормонами антифашистка, только что вышедшая из четвертого класса”, классический образ школьницы был изменен для настоящих 16- и 17-летних. Предлагаемые изменения заключались в том, чтобы опустить косички пониже, заменить гольфы на гольфы-боби и заменить туфли на двухцветные оксфорды с крылышками. Короткая юбка в клетку может остаться.
14. Ovcrbeck 1993. Гудман за несколько лет до этого (1985) сделал несколько снимков молодежной моды, которые имитировали внешний вид нижнего белья Мадонны. Типпер Гор (1987) с радостью указал на статью Гудмана как на пример оскорбления сексуализации молодежи, но статья Гудмана в глубине души является сочувственным признанием желания многих молодых подростков бунтовать и шокировать, не проявило понимания, в негодовании Гора.
15. Миллер 1994. Использование таких моделей некоторыми агентствами считалось прогрессивным, поскольку другие модели представляли собой обычные чувственные образы женственности, которые долгое время критиковались феминистками. Как и радикальный внешний вид Твигги в 1960-х, андрогинный образ считался менее оскорбительным. Отчасти это связано с образом Синди Лаупер “уличной девки” (смотрите ее видео 1984 года “Девочки просто хотят Веселиться”), 1990-е также стали воплощением “образа сорванца”, отчасти благодаря внедрению благородных традиций лесбиянок и геев в гендерном отношении. Стили и роли продолжали смешиваться и сочетаться; рецензируя фильм “Девушка-танкистка" (1994), Глейберман назвал звезду Лори Петти (тогда ей был 31 год) "малышкой сорванцом.”
16. Гарфилд, 1995, представляя, что голос “похож на Джона Уэйна Гейси”.
17. Дизайнеры рекламы предположительно разделяли “квир-чувствительность”, влияющую на художественную и коммерческую деятельность; отчасти это, возможно, отражало более позитивное отношение к сексу, к сексуальности молодежи и отвращение к лицемерным гетеросексуальным мифам о сексе, молодежи и семье. Смотри Глава 10 о сатире и критике 1980-х годов.
18. Реклама в YM, Rolling Stone [#7!5, 24 августа 1995]), New York Times (3 сентября, 1995), pp-111-2, IV-2 и Advertising Age 66(35-4 сентября):34; телевизионные репортажи обеспечивали показ клипов и снимков рекламы. Извинения Кляйна опубликованы в "Нью-Йорк Таймс", 28 августа 1995 г., стр. A-5. Американская семейная ассоциация пыталась поставить себе в заслугу прекращение кампании, но когда реклама была отозвана, кампания все равно пошла своим чередом. Эллиотт указал на два современных события, которые, возможно, способствовали такой реакции. Одним из них был выход в июле 1995 года фильма "Детки", в котором молодые подростки поглощены наркотиками, сексом и рок-н-роллом (в то время как большинству актеров не исполнилось 18 лет, фильм был недоступен для просмотра в кинотеатре лицам младше 18 лет без сопровождения родителей или опекунов). Другой причиной была реактивация страха за невинность онлайновой молодежи и потенциальная возможность появления сексуальных изображений в Интернете и BBS; на обложке Time была изображена иллюстрация маленького мальчика, ошеломленно смотрящего на экран компьютера прямо в лицо зрителю журнала (Элмер-Девитт 1995а).
19. Аноним 1989b. Генсбуру в то время было 18 лет, что свидетельствует об исторической изменчивости “лолилаизма”, Лион (р. 1946), как говорили, было 14, когда был снят фильм, хотя большинство наблюдателей думали, что она выглядела на 18; ей было 16, когда книга была выпущена в 1962 году, в книге Синклер есть стоковые студийные кадры, но можно больше насладиться ее моральным возмущением: “Humberts” - это “похотливые развратники, пережившие свой расцвет, в поисках свежей молодой крови и свежих молодых жизней, которыми можно питаться”. (1988:133).
20. Финк 1992. Фильм основан на автобиографии Маргариты Дюрас 1984 года. Хотя заметка Финка не столь реакционна, как могла бы показаться несколькими годами ранее, название статьи по-прежнему отражает общепринятую точку зрения в США. Для своего “дебюта в качестве журнального писателя” Брук Шилдс (1992) написала рецензию (она специализировалась на французской литературе), в которой говорится, что возраст женщины в фильме - 16 лет. Дюрас сыграла 17-летняя Джейн Марч, о которой ходило множество слухов (что сексуальные сцены были настоящими, что она была девственницей до школы и т.д.). Марч (под названием “Лолита Анно”, Блинкен 1992) приехала в Соединенные Штаты для продвижения фильма, но не смогла часто выходить в свет; “Тебе должен быть 21 год”, - сказала она. Фильм доступен без купюр (на момент написания статьи) на видео, но никто не был арестован и заключен в тюрьму за распространение или хранение “детского порно”.
21. Билли Уайлдер утверждал, что представил “первый американский фильм о педофилии” (Zoiotow 1977: 107). Комментарий был опубликован в то время, когда педофилия становилась темой обсуждения, и вполне возможно, что Уайлдер, возможно, подразумевал какой-то подтекст в фильме.Но восприятие сексуальных интересов зависит не только от возраста партнеров. Контрасты в фильме является частью традиции сексуального фарса, восходящей к классическому театру, и он опирался на популярную в то время “чокнутую комедию.” Кроме того, зрители в то время были куплены на присутствие звезды, и люди ходили смотреть фильм с Роджерсом и Рэем Милландом в главных ролях; маловероятно, что они ушли с чувством, что посмотрели “фильм о педофилии”. Использование аттракциона, отличающегося по возрасту, не было воспринято с развитием одержимого морального гнева в конце 1970-х; в то время как актеры играли вокруг аттракциона (к удовольствию зрителей), никогда не было никаких сомнений в счастливом (и правильном) финале.
22. Набоков 1977:19. Кое-что из этого было прообразовано в “Чародее” Набокова (1987; 48f), в котором рассказчик видит "колебания подземных потоков" 12-летнего подростка. Самый актуальные юридические кодексы вменяют растление в вину, если между партнерами разница в возрасте от трех до пяти лет и/или если одному из партнеров еще нет десяти. Точка зрения Набокова существенно отличается от популярных представлений о “педофиле” как о человеке, которого привлекают все несовершеннолетние.
23. Sonenschein 1984. В популярных визуальных развлечениях почти все были женщинами. Однако в средствах массовой информации, откровенных в сексуальном плане, мне показалось, что в обращении было гораздо больше материалов, восхищающих молодых мужчин, чем женщин.
24. Фаррис 1985:122. В книге у Фарриса есть еще один сексуальный ребенок, застенчиво описанный в сцене мастурбации в душе (1985: 253).
25. Левин 1988: 35, 91, 256. Такое наблюдение и задержания стали обычным явлением, хотя иногда ставили в неловкое положение должностных лиц. Закон штата Аризона, призванный “обязать школы сообщать в полицию о любом ученике, у которого [учителей] есть разумные основания полагать, что он стал жертвой сексуального насилия, сексуального поведения с несовершеннолетним, сексуального посягательства, сексуального домогательства, коммерческой сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего, инцеста или детской проституции”, был воспринят как означающий любой сексуально активный ученик, логическое продолжение этого менталитета (Anonymous 1989c). Последний поворот, привлекший запоздалое внимание популярных СМИ использовать частных детективов, чтобы, по словам одного заголовка, “отслеживать беспокоящих подростков" (Anonymous 1993h); употребление наркотиков, членство в бандах и сексуальное поведение были тремя главными проблемами, которые родители хотели бы контролировать. Статья создавала впечатление, что это что-то новенькое, но это было лишь небольшое изменение давнего использования таких людей для отслеживания детей в спорах об опеке, использования “депрограммистов” во время культовой паники 1960-х и 1970-х годов, а также использования государственного и частного поискового персонала и технологий в страшилках 1980-х годов о "пропавших детях”.
26. Идея “гиперсексуальности” является повторением старой концепции “нимфомании", концепции, слишком привлекательной интеллектуально, эротически и финансово для большинства клиницистов и других моралистов, чтобы позволить ей умереть.
27. Режиссер Кэтт Ши Рубен была обвинена некоторыми феминистками в пропаганде сексуального насилия над детьми. Другие фильмы подобного рода включают "Девочку" (Клэр Пауни) и более старый фильм. "Прелестный яд" в главной роли Tuesday Weld, основанный на фильме Геллера 1966 года.
28. Комментарий взят из записи, на которой Фишер и Питер Дероса занимаются сексом, транслируемой по национальное телевидение. Полный комментарий, сделанный, когда он пытался подтолкнуть ее к большему показу для своей записи, был процитирован Эфтимиадесом: “Все, что угодно. Я безумен. Мне все равно. Мне нравится секс” (1992:74; другой комментарий “Мне нравится секс”, предположительно сделанный другу, находится на стр. 155). Однако, когда ДеРоса попыталась заинтересовать Фишер групповым сексом или SM, она отказалась (Fisher 1993). Запись была сделана тайно и ДеРоса продала ее телеканалу ABC A Current Affair. Продюсер Стив Данливи показал кассету некоторым школьным сверстникам Фишер, а затем продал ее другим журналистам. Клип рекламировался как “Лолита Лента”, хотя никто не был арестован, привлечен к уголовной ответственности, заключен в тюрьму и не был наложен арест на имущество за изготовление, хранение или распространение “детского порно”.
29. Аноним 1992f, 1992g, 1992h. Жалобы также были тайно записаны на пленку другим другом Фишера и проданы печатному изданию ABC, Bradford 1993: 69.
30. Около 50 миллионов семей посмотрели по крайней мере один из фильмов (Талер 1994:82-85). Жертвы любви: История Лолиты с Лонг-Айленда (рассказана с точки зрения Джоуи Буттафуоко, в главной роли Айисса Милано), "История Эми Фишер" с Дрю Бэрримор в главной роли и "Эми Фишер: моя история". Последний фильм NBC с Ноэль Паркер в главной роли был рассказан с точки зрения Фишер; вступительная сцена показывает Фишер в ее комнате, на заднем плане которой полно стандартных невинных/сексуальных икон, мягких игрушек животных. Телеканал NBC скромно посвятил большую часть своей бульварной программы Dateline NBC (29 декабря 1992 года) показу того, как они снимали эту историю. В то время как Джоуи Буттафуоко утверждал, что у него никогда не было романа с Фишер, его отец защищал его, нападая на нее: “Эта девушка хорошо смотрится на фоне ядовитого плюща” (Фишер 1993:235), напрашиваясь на очевидное сравнение с одноименным фильмом "демоническая Лолита", в главной роли Дрю Бэрримор, которая также сыграла Эми, завершая своего рода круг.
31. В рекламе была изображена молодая женщина в солнцезащитных очках, напоминающая рекламу фильма "Лолита" 1962 года выпуска. В фильме молодой женщине 14 лет (ее играет 15-летняя Алисия Сильверстоун), возраст, который все еще находится в пределах допустимого, но как раз на грани дозволенного, чтобы быть интересным. Мужчина “постарше” 28 лет, возраст не вызывает беспокойства.
32. Картер, 1979. По этой истории был снят британский фильм, в котором Рэд стал взрослым, утратив влияние девочка, которая угрожает, внезапно и коварно становится сексуальной по собственному желанию и в своих интересах. В Англии наблюдались аналогичные истерические реакции на сексуальные отношения между взрослыми и молодежью.
33. Даль 1982: 22-24. В другой сказке (стр. 27-30) один из трех поросят зовет Реда на помощь, чтобы спасти его от волка. После того, как она высушила волосы феном, он приходит, чтобы снова застрелить волка и сшить еще одну шубу. Последний поросенок благодарит его, но Ред стреляет в него и делает из него дорожный чемодан. Этот эпизод был снят за несколько лет до этого Джеймсом Тербером (1940:5).
34. Информационный бюллетень об интеллектуальной свободе 39 (1 января):33, 1990. Женщина в книге на самом деле гораздо моложе 14; снижение возраста паникующим родителем является примером инфантилизации в этот период. Чувства, которые она испытывает к пожилому мужчине (70 лет), представляют собой смесь глубокой привязанности, преданности и уважения, наряду с тем, что осторожный автор намеревается изобразить как первые проявления физической признательности. Эмоции частично направлены на мужчину, потому что он рядом и он ей очень нравится, но также и просто из-за общей гетеросексуальной предрасположенности, к которой приходят многие девушки. Конечно, нет намерения заводить какие-либо отношения, и “похоть”, которая повергла родителей в панику, - это самое большее, что я бы назвал облегченной похотью.
35. Ее замечания были двусмысленными; мастурбация была “чем-то, чему, возможно, следует учить”. Она сказала, что имела в виду “преподавать об этом”, в то время как реакция заключалась в том, что она хотела преподавать техники. Ни то, ни другое не было неприемлемым.
36. Anonymous 1992n, Bouza 1992:85. Более поздний опрос показал лишь незначительное снижение возраста при первом половом акте (Laumann, et. al., 1994: 324ff). Эти данные не свидетельствуют о “сексуальной революции”, а возраст у большинства молодых людей (за исключением чернокожих мужчин) первый половой акт происходит в позднем подростковом возрасте; в их исследовании 19% женщин имели половой акт к 15 годам.
37. McCoy 1988:80. Часто используемые слова “экспериментирование” или “любопытство” были такими фразами, как “сексуальная игра”, которые использовались для опошления сексуальности молодежи и отрицания сознательной и преднамеренной сексуальной активности, особенно среди подростков.
38. У меня есть фотокопия ее колонки, озаглавленной “Теперь мальчикам нужно сказать “Нет"", но мой корреспондент не предоставил газету. Дата указана как 11 декабря 1984 года, но я не вижу письмо от “Родителей из Техаса” в ее колонке в других газетах за эту дату.
39. Новости гей-сообщества, 10 августа 1985 года, взяты из репортажа, появившегося на первой полосе страницы.
40. Аноним 1985с, плюс репортажи без страниц, присланные мне из Сан-Хосе [Калифорния] Mercury News (23 февраля 1985) и Miami Herald (24 февраля 1985).
41. Аноним 1982h. В других новостных сообщениях цитируются слова судьи: “необычайно неразборчивая в связях молодая леди” (Аноним 1982i; Ройко 1982).
42. Бланшар 1929: 543. Уилсон и Харрис (1979) указывают, что политика продолжала действовать где неуправляемая молодежь, особенно женщины, были помечены как “неразборчивые в связях” и подвергались осмотрам органов малого таза, вагинальным мазкам, тестам на беременность и помещению в специализированные учреждения. Они также отмечают, что, когда молодые женщины проявляют интерес к мужчинам старшего возраста, результатом часто становится направление в суд.
43. Аноним 1983e, Идея “колец” связана с беспокойством американцев по поводу группового секса, независимо от возраста или пола участников. Данные о способностях детей социально организовывать свои сексуальные мероприятия подтверждают тот факт, что секс не только происходит в определенных социально определенных контекстах, но и является связанным с социальным и психологическим управлением молодежью. Дети (сверстники и не сверстницы) и взрослые (сексуальные партнеры или непартнеры) определяются социально, культурно, а иногда и экономически в отношении допустимых маршрутов входа и выхода. и степени социосексуальной активности. Кроме того, многое из этого обязательно включает в себя несексуальные элементы, такие как личная идентичность, статус, роли и культурные стили поведения и артефакты.
44. Френкель 1973: 230. Она была приговорена вместе с 19-летней полькой, которая, будучи более низкого расового статуса, была приговорена к 15 месяцам лишения свободы.
45. Френкель 1973: 241 и далее. Американский фильм "Swing' Kids" значительно увеличил возраст бунтующей молодежи, в очередной раз стерев сексуальную или политическую активность дошкольников и молодых подростков младшего возраста.
ГЛАВА 3
1. Рассели 1988: 24, 35; Уайт 1972; Фридман 1981. Христиане начали официальное уничтожение языческих изображений в VI веке, гениталии которых были особенно подвержены стиранию (Камилла 1989:19; о христианской ненависти к телу см. стр. 92 и далее).
2. дю Морье 1894: 255. Эми Фишер была раскручена ее адвокатом Эриком Найбуром как “доверчивая жертва Свенгали” (Fisher 1993: 221). Холлингсворт сказал, что (кубинец) Фрэнк Фустер отрицал обвинения в жестоком обращении “сценическим шепотом с сильным акцентом, который напоминал вампира в малобюджетном фильме фильм ужасов. Нет-веррр. Нет-веррр. Нет-веррр” (1986:380); она высмеяла его акцент зловещей этнической ассоциацией (стр. 411,518).
3. Maccoby 1982: 166-171. Частью характеристики педофила является то, что он “часто переезжает.”
4. Обычно цитируемый отрывок касается вопроса о том, могут ли евреи быть “осквернены”, если они занимаются сексом с молодыми людьми. В отрывке говорится, что секс с “языческими” женщинами может быть оскверняющим, потому что они способны к сексу в возрасте трех лет и одного дня; мужчины-язычники могут вызвать осквернение в возрасте девяти лет и одного дня (Bytwerk 1983:144, цитируя “Абода Зара”).
5. Трахтенберг 1943: 50f. Связанный с этим фрагмент европейского фольклора того времени, существовавший еще в 19 веке, гласил, что половой акт с юной девственницей излечит от сифилиса. Говорили, что некоторые ритуалы требовали смазывать христианской кровью гениталии еврейских детей. В мае 1890 года в Париже появились плакаты, предупреждающие матерей не выпускать своих детей на улицу, потому что евреям нужна их кровь для празднования Пасхи (Уилсон 1982: 552). Обвинения были придуманы не только для применения к евреям. Христиане обвиняли еретические секты в подобной практике как нечто само собой разумеющееся; францисканцы говорили, что доминиканцы использовали кровь еврейских детей для богослужения. В 19 веке ислам также обвинял Евреев в использовании мусульманских детей в таких целях (Дэйви 1907: 398).
6. Протесты по поводу этого заявления были вызваны тем, что в ритуалах предположительно участвовали евреи, а не тем, что такие ритуалы были воображаемыми или сфабрикованными.
7. Интересным жанром, который появился до этих культов и немного пересекался с ними, были изображения, призванные изобразить Иисуса как полностью человеческое воплощение главного божества. Было много картин и рисунков Марии и других людей с обычным обнаженным младенцем Иисусом, но взрослые символически или на самом деле ласкают гениталии младенца. На более поздних изображениях изображен взрослый Иисус (изображения Иисуса-подростка нет), ласкающий себя или эрегированный фаллос. Демонстрации этих изображений, как правило, редки в Европе и крайне редки в Соединенных Штатах. Смотри Стейнберг, 1983; его книга появилась во время эскалации паники по поводу злоупотреблений и продвижения религиозных правых, что сделало ее объектом резкого осуждения.
8. Bytwerk 1983: 101, ссылаясь на руководство для учителей немецкого языка 1937 года. Смотрите таблички в Боберахе 1982: 74f, показывающий, как немецких детей учат распознавать еврея; Cecil 1972; Bytwerk 1983, фото 24; и Szajkowski 1977, рисунок 101 (стр. 39), и фото 98 для иллюстраций 1936 года брошюра "Не доверяйте Лисе на ее вересковой пустоши или еврею на Его клятве".
9. Bytwerk 1983: 148ff; Мосс 1964:141. Смотрите также главу Бартова “Искажение реальности”, 1991: 106-178.
10. Линдеманн, 1991. История Франка-Фагана оставалась популярной. В фильме 1937 года Они не забудут, Мэри Фэган играет 17-летняя Лана Тернер. 1980-е годы также способствовали пересмотру и изложению истории: Фэган 1987, Фрей и Томпсон-Фрей 1988; телефильм 1988 года из двух частей. "Убийство Мэри Фэган", воспроизведено событие и его последствия.
11. Пирс 1953; Сэнфорд 1961:93. Отождествление экзотики с эротикой закрепилось в 19 веке, что не случайно связано с идеей самого жанра (Stemberger 1977:50, passim). Стремление к очищению исходит в основном из кальвинизма (Кибби, 1986).
12. Похожие образы до сих пор появляются в отношении бедных белых южан (см. Макллуэйн, 1939). Известные, как правило, повсеместным кровосмешением, небритые деревенщины знамениты грубым взятием девушек в жены, как в фильме 1941 года об эксплуатации. Невеста-ребенок.
13. Из New York Daily News от 4 апреля 1864 г. (Wood 1968:61). К 1850-м годам расовая чистота была широко признана желательной в научных кругах.
14. "Диксон 1905:304", "Основа для рождения нации", выпущенный десятилетием позже. Героические образы всадников клана были удалены из большинства копий фильма на протяжении многих десятилетий.
15. Миллер 1969: 185. Предполагалось, что под прачечной были скрытые туннели, где содержались дети; также считалось, что у католиков есть туннели, соединяющие монастыри с другими Церквями, обеспечивающие тайный сексуальный доступ между духовенством и монахинями и служащие местами захоронения изнасилованных и убитых детей (Дженкинс 1996:25).
16. Основано на рассказе “Китаянка и ребенок” (Берк, 1917). Сериал Сакса Ромера [Артур Сарсфилд Уорд] "Фу Манчу" появился в 1913 году, и в большинстве английских и американских криминальных романов и фильмов того времени фигурировали злые азиаты.
17. Смотрите Kunzie 1973: 175, фото 6-25 о ведьме 1669 года, соблазнившей мальчика и девочку в Германии. Предполагалось, что ведьмы особенно стремились развратить своих собственных детей.
18. Майлз 1989:76; см. также Химмельфарб 1985, Кампорези 1988, Ся 1988, Делюмо 1990, Хайуотер 1990: 111ff.
19. Гегель отмечал, с каким энтузиазмом христиане восприняли демонстрацию мук своих мучеников, продолжая зрелища, которые они ранее осуждали как аморальные; “бред религиозной страсти вполне соответствует аппетиту к грубым и варварским зрелищам”, - сказал он (1956: 339). Христианские императоры Рима продолжили игры и увеличили число преступлений, влекущих за собой смерть на арене. Самый известный текст - "Мучения христианина 16 века" Мученики преподобного Антонио Галлонио. Перекликаясь с тенденциями 1980-х годов, книга обрела новую популярность и была переиздана с иллюстрациями карикатуриста С. Клея Уилсона, Джона (“Клоун-убийца”) Гейси, Чарльз Мэнсон, Ричард (‘Ночной сталкер”) Рамирес и другие, связанные со страданиями, пытками и смертью. Смотрите также главу 8.
20. Шорш 1979:40, Слаллибрасс и Уайт 1986: 149-170. Рэдбилл (1980:9 и более поздние издания) принимает это как универсальный факт, изображаемый как “извращение” и “порочность”.
21. Фэйрчайлд 1984: 182. Она полагала, что, будь то хозяин или слуга, у этих молодых людей, прошедших такую инициацию, возникнут трудности с формированием “нормальных гетеросексуальных отношений” (стр. 175).
22. "Не утруждай себя стуком" (1952, с женщиной-ребенком Мэрилин Монро), "Няня" (1965), "Нянька" (1980, с бывшей детской звездой Пэтти Дюк Астин) и "Рука, которая качает колыбель" (1992, с Ребеккой Де Момей), Шнайдер (1992) рассматривает последний фильм, приводя примеры жестокого обращения с детьми со стороны нянь, которые попали в новости в 1980-х годах.
23. Босуэлл осознавал трудность работы с древними текстами и их значениями, и действительно, его критиковали за перенос значений 20-го века в средневековую мысль. Его монолитный взгляд на секс между молодежью и взрослыми как на “насилие" еще больше усложняет смысл, который он пытался придать позитивным и негативным оценкам гомосексуальности и детской сексуальности.
24. Френкель 1973: 217, цитируя юридического директора Рейха Ханса Франка; термин 1980-х годов для такого рода мышления - “предрасположенность”. Перед историческими успехами республиканцев на выборах в конце 1994 года, спикер Палаты представителей Ньют Гингрич (республиканец от штата Джорджия) заявил, что демократы являются “врагами нормальных американцев” (Деврой и Бэбкок, 1994).
25. “Гомики напали на мемориал Холокоста”, Новости гей-сообщества (15 июня 1985 г.), из сообщений в "Санта-Ана, Калифорния Реджистер".
26. Инглиш и Пирсон 1945: 378. Это утверждение было сохранено во втором издании 1955 года, но из-за новых исследований, начавшихся в конце 1950-х и начале 1960-х годов, это замечание было снято в издании 1963 года.
27. Исторически этот термин ограничен, но замены всегда находятся. “Кольца” и “сети” позже стал популярен среди приверженцев конспирологии; Руэда (1982) включал североамериканцев Ассоциации любви к мальчикам (NAMBLA) входит в его клубок подрывных организаций гомосексуалистов.
28. Руководства по этическому поведению часто появляются в процессе развития сексуальных субкультур. Отношениям между взрослыми и молодежью были даны свои этические наставления, некоторые из которых были опубликованы, некоторые распространены в машинописный текст или электронной форме. Большинство из тех, что я собрала, написаны с точки зрения любви к мальчикам (Rossman 1973, 1976: 193f; Anonymous 1975; Джонс 1976a, 1976b, 1977; Николс 1976; почти любой выпуск бюллетеня NAMBLA), хотя некоторые были нацелены на любителей девочек или на обоих (Anonymous, “Руководство по лучшей любви к детям; справочник любителя детей”, Love #39 [без даты, середина 1970-х годов], стр. 751-755; ”Непристойные правила дяди Рэя для воплощения в жизнь романсов в ползунках“, машинопись, начало 1982 года; "Как заниматься сексом с детьми”, Общество Говарда Николса, 1983). Некоторые из них довольно серьезны, в то время как другие полны юмора или сатиры.
29. Из неопубликованной лекции, Сан-Франциско, октябрь 1986 года.
30. MacNeil-Lehrer Newshour, 23 октября, 1992, “Права геев — Орегон. Правильно или неправильно?” Смотрите также Tuller 1992. Упомянутый гомосексуальный “манифест”, вероятно, является текстом, используемым для “доказательства” подрывной угрозы гомосексуализма. Робертсон процитировал (1993: 170) то, что он назвал ”залогом гомосексуального движения":
Мы будем насиловать ваших сыновей, символы вашей слабой мужественности, ваших пустых мечтаний и лжи. Мы будем соблазнять их в ваших школах, в ваших общежитиях, в ваших спортзалах, в ваших раздевалках, на ваших спортивных аренах, в ваших семинариях, в ваших молодежных группах, в туалетах ваших кинотеатров, в ваших армейских бараках, на стоянках для грузовиков, в ваших мужских клубах, в вашем Доме Конгресса, как бы мужчины ни были вместе с мужчинами. Ваши сыновья станут нашими приспешниками и будут выполнять наши приказы. Они будут переделаны по нашему образу и подобию.
Робертсон туманно сказал, что этот текст был “зачитан в Конгрессе” и “часто повторялся”. Текст циркулировал среди фундаменталистских политических групп, его происхождение неизвестно. Он мог исходить от самих религиозных правых (как и аналогичные “документы”), или он мог быть сконструирован шутниками, намеревающимися заманить своих оппонентов в иррациональное пенообразование (что также было сделано). Текст не был “зачитан” в Конгрессе (подразумевалось, что геями), но внесен в отчет Конгресса как “дополнение к замечаниям” (Том 133, №124, 27 июля 1987 г., стр. E3081- E3082) из более ранней публикации в католическом еженедельнике. The Wanderer (Майкл Свифт, “Америка: это объявление войны геям?”, 25 июня 1987). Выдержка из протокола Конгресса, озаглавленная “Воинствующих волков в робкой одежде, больше нет!”, была представлена Уильямом Даннемейером.
31. То, что Уильямс называет “состраданием”, требует реабилитации и тюремных сроков; все потребители наркотиков “должны подвергаться стигматизации”, сказал он.
32. Цитируется по Brechcr 1972: 321-334, “Как создать общенациональную наркоугрозу”. Работа Брехера активно осуждалась в антинаркотической риторике, но остается замечательным примером неистерического и рационального исследования и рекомендаций. К сожалению, его критические способности значительно ослабли, когда он проанализировал способы, которыми государство обращалось с сексуальными преступниками (Brecher 1978).
33. Rivers 1986:17. Взрыв федерального здания в Оклахома-Сити в апреле 1995 года, в который, по оценкам, унес жизни 26 детей, предоставил журналистам еще одну возможность использовать травмированных детей для представления определенных политических ценностей. Фотография пожарного, держащего на руках умирающего годовалого ребенка, стала международной иконой этого события и его официального значения (обложка Newsweek, 125[18-1 мая], 1995); также использовались поврежденные плюшевые мишки (Кент и Ки, 1995; Ирвинг, 1995). Смотрите примечание 44.
34. Эдвард Саид выступил с сокрушительной критикой сфабрикованных доказательств, неадекватных данных и предвзятой теории, которые характеризуют большую часть текущей политико-научной работы по терроризму и национализму (Саид и Хитченс, 1988); смотрите также Алали и Эке, 1991, о развлекательных образах террористов и их жертв. Одна из главных задач журналистики - отделить “террористические акты” от политического контекста и истории; аналогичная тактика используется в отношении сексуальных “извращений”.
35. Кан 1987:58. Следует отметить, что американские книгоиздатели были запуганы нападками правых и отказались публиковать книгу Кана, а ФБР и Сенатский комитет по внутренней безопасности. Подкомитет попытались заблокировать книгу Матусова (Pessen 1993: 151).
36. Обезьяноподобный гунн, несущий невинность, юность и женственность, был воплощением того, что тогда было очень известной скульптурой “Горилла” 1887 года работы Эммануэля Фремье (показана в Дейкстра 1986: 291, таблица IX, 21).
37. Смотрите выпуск "Национального католического репортера" от 7 июня 1985 года. Популярность темы возросла (Judgment', Harris 1990; Россетти 1990, Андерсон 1992, Берри 1992, Сеннотт 1992, Шелер 1992, Буркетт и Бруни 1993, The Boys of St. Vincent). К 1993 году несколько священников были осуждены за секс с несовершеннолетними и получили такие же суровые приговоры, как и другие (Anonymous 1993a), хотя другие приговоры, по-видимому, были значительно менее суровыми. Свободомыслящая Энни Лори Гейлор (1988) с энтузиазмом вступила в борьбу, но ее бездумное принятие банальностей того периода показывает, что она использовала педофилию как признак моральной неполноценности, точно так же, как религиозные активисты аналогичным образом использовали идеи гомосексуальности и сексуальные представления.
38. Шупе и Бромли, 1982. “Дети” в этой истерии обычно были люди в возрасте позднего подросткового возраста и в начале 20-х годов. К 1980-м годам “депрограммирование” считалось допустимым для использования на более молодых людях. Говорили, что депрограммист Рик Росс депрограммировал ”детей в возрасте пяти лет" (Мэдиган 1993:80).
39. “...данные свидетельствуют о том, что травма депрограммирования, а не членство в культе, вызвала эмоциональное напряжение у бывших членов культа” (Мелтон 1986: 235).
40. См. Nathan 1990a и Tobias and Lalich 1994 для получения информации и связей с темами сексуального насилия над детьми 1980-х годов. Сингер и Лалич (1995:254) утверждали, что сексуальное насилие “поощрялось” в некоторых культах, но не привел примеров. Возрождение жанров ужасов в 1970-х годах создало благодатную почву для роста этих образов; такие фильмы, как "Братство сатаны", изображали сатанинский культ, преследующий детей, а "Верующие" включали ведьм, приносящих детей в жертву, "Константин" (1995) сохраняет образы 1980-х годов и утверждает, что заговоры педофилов реальны и широко распространены, хотя главными злодеями являются ЦРУ и Пентагон, которые организовывали культы и управляли ими с 1963 года; физическое и сексуальное насилие используется для программирования детей и взрослых участников.
41. Шупе и Бромли 1982; Шупе 1987: 215. Самым известным “депрограммистом” был Тед Патрик (1976); многие из его методов использовались следователями, проводящими допросы детей в случаях жестокого обращения. Тексты о том, как заставить вашего ребенка поверить в религию (Berends 1991, Fitzpatrick 1991), в значительной степени игнорировались как юридически, так и академически, несмотря на долгую историю детского евангелизма (Sonenschein 1982). Гревен (1990) проводит некоторые первоначальные исследования, но его работа смущена наивным повторением психической болтовни. Взгляд на религиозные убеждения и практику как на жестокое обращение и психические заболевания, в то время как никогда не занимавший доминирующего положения в светской психологии, оставался вызывающим беспокойство подтекстом, угрожающим следовать эмпирическим основаниям и стать официальной теорией. Популярные высказывания редко всплывают на поверхность, чтобы заглушить более глубокие проблемы, особенно когда они касаются детей. Артур Каплан, директор Центра изучения - Биомедицинская этика в Университете Миннесоты (1992) признала ужасные злоупотребления, но призвала “проявлять максимальную чувствительность и осторожность” при подходе к религиозным верованиям - предупреждение, явно отсутствующее в подходах к сексуальности человека. Один из текстов, направленных на “выздоравливающих фундаменталистов” упоминался ущерб, причиняемый молодежи некоторыми религиями, но делались скидки духовенству и родителям, которые “верили, что поступают правильно”; кратко упоминалась конфронтация с религиозными насильниками, но не поощрялось уголовное преследование или гражданский иск (Winell 1993: 201). Наконец, я должен упомянуть группу нью-йоркских фокусников и артистов эстрады, миссия которых заключается в евангелизации детей, известных как "Клоуны короля".
42. Шпигельман и Конвей, 1979a. Дельгадо также считал, что фактические или потенциальные психологические травмы были достаточной причиной, чтобы отвергнуть опасения по поводу Первой поправки, аргумент, выдвинутый с небольшими вариациями, но с большим успехом в отношении запрета видеоматериалов сексуального характера для детей.
43. Например, Rasmussen 1976, Underwood and Андервуд 1979. Десятилетие также было временем переиздания рассказов в аналогичном жанре из предыдущего столетия, например, Young 1972.
44. Мэдиган 1993: 289. Бывший сотрудник Кореша утверждал, что ему было известно о сексе с 12 и 14-летними (Брео и Кинг 1993: 62f, 72f; Мэдиган 1993:113; 110). Оклахома-Сити взрыв произошел в годовщину налета на комплекс "Бранч Дэвидиан". В то время как широко использовалась информация о гибели детей в Оклахоме, о детях из Техаса не проявлялось такого беспокойства. Слушания о рейдах в июле 1995 года были сильно политизированы, причем демократы особенно беспокоились о том, чтобы правоохранительные органы не были “запятнаны”, одним из первых свидетелей была 14-летняя Кири Джуэлл, которая дала показания о том, что у нее был секс с Корешем, когда ей было 10 лет, слушания успешно подтвердили, что Кореш - демон-педофил, и закончились тихо, без каких-либо судебных решений против ФБР или ATF.
ГЛАВА 4
1. Иногда дети сами казались маленькими пьяницами (Гоф, 1887). Дитя-спаситель использовало бурную и безусловную духовную и физическую привязанность, чтобы спасти отца и семью. Санчес-Эпплер (1995) рассматривает это как эротизацию ребенка и часть патриархального заговора с целью санкционирования жестокого инцеста; истории о трезвости полны “педофильских условностей”, говорит она. Заговоры - это весело, но "Дитя трезвости" - скорее продукт театральной мелодрамы, религиозной и светской морали движения и общей исторической сакрализации ребенока 19-го века; кроме того, большинство историй, написанных женщинами для других женщин, содержали основанные на гендерных ролях концепции преданности и привязанности.
2. Следующий материал по борьбе с табакокурением взят из Tate 1989.
3. Дети иногда также играли роль спасителя/говорящего правду в антинаркотических текстах. В одном из них наркоман встречает 10-летнюю девочку и в восторженных выражениях восхваляет ее красоту и чистоту, а также кратко упоминает о “врожденной не по годам развитости”, но потрясен, когда обнаруживает, что она слепа. Вернувшись позже в город, он обнаруживает, что она мертва, пораженная молнией — “лишена девственности”, как он сказал. Он оплакивает утрату красоты в мире и размышляет о ее последствиях для его грязной и растраченной впустую жизни (MacMartin 1921:147ff).
4. Это была история, часто рассказываемая преподобным Брюсом Риттером, рекламирующим свою деятельность в Доме Завета, основанная на инциденте, в котором 12-летняя проститутка либо прыгнула, либо была сброшена с крыши отеля (Raab 1977).
5. Анслингер и Оуслер 1961: 29. Некоторые анекдоты Анслингера о черных и белых подростках, употребляющих наркотики, см. в Sloman 1983: 59f.
6. Требах 1987. Рейнарман и Левин (1989:115) называют это “необычайным антинаркотическим безумием” прессы и политиков. Это также было в самый разгар паники по поводу СПИДа (1983-1985, Кинселла, 1989), в котором потребителей игольных наркотиков обвиняли в распространении болезни так же сильно, как и гомосексуалистов.
7. В середине 1996 года Кук попыталась вернуться к репортерской деятельности после многих лет изгнания, но журналисты отреагировали с напыщенным негодованием, редактор New Orleans Times-Picayune сравнил ее повторное трудоустройство с “детским садом, нанимающим осужденного растлителя малолетних” (Nolan 1996).
8. Нижеследующее взято из учебных программ по профилактике наркомании: Руководство по отбору и внедрению, Управление образовательных исследований и усовершенствований, Департамент образования, 1988 год, цитируется как Drug...
9. Аналогичная листовка появилась в Вирджинии в начале 1990 года (Hicks 199Ia: 329). Рассказы о татуировках с ЛСД циркулировали ранее (Аракс и Биллитер, 1987, Колата, 1988), и, хотя было доказано, что они ложны, эти рассказы имеют много общего с другим современным фольклором, таким как угрозы зараженной пищей (или бритвенными лезвиями) на Хэллоуин. Беста, 1990) и к слухам об “отравленной игле” о белых Работорговцах (Аноним, 1914).
10. Помимо критиков, указывающих на простодушие отнесения всех наркотиков и наркопотребителей к монолитным категориям, было опубликовано небольшое количество популярных аккаунтов, разоблачающих раздувание статистики, как это происходило с “пропавшими детьми”. Гарретт (1988) указал, что DEA организовывало фальшивые рейды по борьбе с наркотиками, которые прославлялись некритичной новостной индустрией, а Т. Джонсон (1991) упомянул преувеличенные или сфальсифицированные цифры изъятий. С середины 1980-х по 1990-е годы продвигалась так называемая программа “крэк-бэби”; предполагалось, что младенцы, рожденные матерями, употребляющими крэк, будут непоправимо повреждены на всю жизнь. Несмотря на то, что в начале 1990-х годов это было разоблачено как еще одна псевдопроблема (Грейдер 1995), образы продолжали быть полезными как либералам, так и консерваторам.
11. Роу 1911: 167; женщине было 17 лет. С точки зрения эстетики и намерений этой риторики, то, что он имеет в виду, “лучше всего, когда его воображают”.
12. Роу 1910:84, 169, 183, 216, 218; одна упоминается как “всего лишь маленькая девочка”, стр. 117. Роу 1911: 159.
13. Коннелли 1980: 127. Скульптура изображена на обложке Обзора за этот год; Мерриман 1913.
14. Торговля азиатскими женщинами в конце 19-го и начале 20-го веков была задокументирована Gronewoid 1982. Некоторые из них использовались для проституции, но многие были проданы в качестве жен, а некоторые были членами семьи - браки по договоренности. Очень немногие другие, возможно, были женщинами сами по себе, но воспринимались как сексуальные преступницы. Дэйви (1907: 103. 121f) отметил торговлю в Турции, при которой детей и женщин похищали и продавали в качестве жен и/или рабочей силы.
15. Слоан (1988:80-86) сообщает о фильме 1914 года "Торговля людьми" с участием Макса Ашера, известного актера и продюсера, который, возможно, был режиссером фильма. Анонимный рецензент (1916) написал о благочестивом,Любая ли девушка в безопасности? что “будет интересно понаблюдать, как долго будет гореть рвение анонимных социальных работников, когда кассовые сборы перестанут приносить прибыль”. Даже несколько газет пытались “ погасить пожар истерии”; один писатель выразил сожаление по поводу общественного мнения, которое “упивается” историями и тем, что они показывают истории коммерческой эксплуатация средствами массовой информации (Аноним, 1914).
16. Roe 1910: 92f, 106. Это было давней проблемой. Независимая молодая женщина предыдущего поколения также рассматривалась как та, кто “жаждет стимулов и пустой веселости дикой жизни, которую она вела” (Брейс 1872: 117).
17. Роу 1911: 260. “Зверями” были те, кто занимался внебрачным сексом, и любители эротики. Другие хотел “истребить злое стадо” (миссис К. Харрис 1909:21).
18. Преподобный Брюс Риттер (1977:253) также умоляет: “Ради Бога, джентльмены, ради детей, сделайте что-нибудь с этим!”
19. Биллингтон-Грейг 1913:434. Она сама была беглянкой в 17 лет, практически одинокой во времена интенсивного одомашнивания; к раздражению защитников семьи, она привела ряд причин, по которым молодежь хотела бы сбежать из семьи. Барри (1979) процитировал эту статью и отметил, что Биллингтон-Грейг покинула женскую реформаторскую группу из-за ее догматизма. Это должно было случиться с американским феминизмом в начале 1980-х, когда произошел фундаментальный раскол по вопросам сексуальности между правыми и левыми феминистками. Барри, отождествлявшая себя с правым крылом, не обратила внимания на то, что Биллингтон-Грейг ясно задокументировала, или на ее исторические уроки.
20. Большинство ученых относят истерию против мастурбации к концу 18-го века, когда Тиссо впервые опубликовал "Онанизм". Но беспокойство начало проявляться еще в 15-м веке, когда Церковь усилила давление на своих подданных, требуя признаться в их личном поведении и мыслях, и когда на мастурбацию смотрели гораздо хуже, чем на изнасилование; за это время Церковь снизила допустимый возраст для исповеди с 14 до 7 лет. Некоторые авторитеты полагали, что люди не способны совершать грехи похоти, пока не достигнут половой зрелости, но другие позже, в 16 веке, “сокрушались” по поводу того факта, что подростки часто были виновны в похоти; Bossy 1975, Tender 1977: 70, примечание 2.
21. Фуко 1980: 120. Халлер и Галлер рассматривали викторианские сексуальные проблемы как “переходные”, а не “регрессивные” (1974: xiii).
22. Халлер и Халлер 1974: 134, цитируя книгу Джона Келлога 1883 года.
23. Халлер и Халлер 1974: 60. Эксперты полагали, что если бы женщины получали такое же образование, как и мужчины, они страдали бы “невралгией, заболеваниями матки, истерией и другими расстройствами нервной системы”, а также чахоткой, золотухой, анемией, бели, аменореей, дисменореей, хроническим и острым оваритом. Девочкам, начинающим половое созревание, следует избегать физических упражнений, “мозговой работы и всех форм умственного и физического возбуждения” (Clarke 1972: 18, 22f, 47f), чтобы дать возможность своей репродуктивной системе созреть.
24. Халлер и Халлер Халлер (1974:184ff) и другие указывают, что в рамках усилий по ограничению физического развития и независимости женщин было высказано предположение, что женщины середины-конца 19-го века, катавшиеся на велосипеде, на самом деле делали это только как способ мастурбации.
25. Врач 1876:108f. Фаулер (1869:60) сказал, что девочки пристрастились к мастурбации, а Тиссо говорит о пристрастии к мастурбации (издание 1784 года). Подробнее о сексуальной зависимости смотрите в главе 7.
26. Баркер-Бенфилд 1976: 274. Тиссо почти за столетие до этого описал 7 или 8-летнего мальчика чье неистовое занятие мастурбацией привело его на порог смерти.
27. Из Шпица 1952; Хэйр 1962; Даффи 1963, 1982; Макдональд 1967; Комфорт 1970: 69-113; Энгельхардт 1974; Хартман 1974; Баркер-Бенфилд 1976.
28. Включая вскрытия; Даффи (1982) говорит, что по крайней мере две смерти были официально приписаны мастурбации медицинскими властями. Большинство исследований было направлено на то, чтобы показать, как мастурбация вызывает безумие; в отчете за 1848 год говорилось, что 32% госпитализаций в психиатрическую больницу Массачусетса были вызваны мастурбацией. Немногие оспаривали это; те, кто это делал, “становились изгоями профессии” (Хальер и Халлер 1974:203), как это произошло в 1980-х годах (Офше и Уоттерс 1994: 12, 31, 200, пассим).
29. Вспоминая утверждение 1980-х годов о “злоупотреблении пищей” со стороны детей, подвергшихся насилию, и педофилов, в 18-м и 19-м веках считалось, что определенные продукты “побуждают” к мастурбации: соусы, рыба, желе, устрицы, мясо, чай, кофе, шоколад, алкоголь, табак, соль, перец, горчица, гвоздика, тмин, имбирь и мускатный орех; мастурбаторшу также могла выдать ее тяга к глине, мелу и древесному углю. Халлер и Халлер цитируют У. Ф. Моргана, доктора медицины, из New York Medical Times (1896) как говоря: “Очень немногие молодые мужчины могут употреблять сыр, яйца или спаржу... не испытывая раздражения от эрекции на следующую ночь”. Морган посоветовал не есть арбуз, поскольку это может вызвать сексуальное возбуждение: “говорят, что наши цветные братья в полной мере оценили этот факт” (1974:105, 197, 200).
30. Баркер-Бенфилд 1976: 170, цитируя "Руководство для студентов" Джона Тодда.
31. Краффт-Эбинг 1965:68. Клиторидэктомия использовалась в качестве лечения с начала 19 века до последнего применения в Соединенных Штатах в 1920-х годах, хотя она все еще практикуется в Африке и других местах. Популяризированный Айзеком Бейкером Брауном, который стал главой Лондонского медицинского общества, она был отвергнута не из-за её дикости, а потому, что большинство экспертов отрицали важность клитора в женской сексуальности (Кем 1975: 101f). Статья Замбако, вышедшая из обращения на столетие, была переиздана в 1981 году.
32. Отмечено редактором издания Робертом Бремнером в Comstock 1967:x.
33. Инчиарди (1986:22), позже он говорит (стр. 211), что те, кто называет его “фашистом” или “архиконсерватором”, являются “атавистическими либеральными мыслителями”. Не являются.
34. Коннелли (1980:114) называет литературу о белом рабстве “экзотическим” жанром. Одно из моих замечаний заключается в том, что все эти истерии обязательно опираются на традиционные образы, поскольку движения преследуют схожие цели. Они скорее классические и общепринятые, чем экзотические, точно так же, как паника - это не отдельные вспышки временного помешательства, а проявление культурных сил, которые присутствуют всегда.
35. Статьи Гувера 1955 и 1967b годов представляют собой почти один и тот же текст, обновленный лишь заменой нескольких цифр; слово “недавно” сохранено в нескольких случаях.
36. Гувер 1947, 1955, 1967b. Шестьюдесятью годами ранее Комсток (1880: 416f) горько жаловался на либералов и вольнодумцев, которые защищали торговцев непристойностями с “слащавым сочувствием” и совершенно не заботились о тех, кого сто лет спустя назовут “жертвами порнографии”.
37. Magie 1853:42. Очень похожая тема встречается в брошюре против порнографии. Клише, из книги "Мораль в СМИ" [дата не указана; 1980-е], Нью-Йорк.
38. Аналогичные обвинения были выдвинуты в адрес популярных таблоидов, которые в изобилии появлялись в первой половине 19-го века. Критик в 1843 году заметил, что “преступление [является] следствием зверств в литературе” (Ноэль 1954: 19, 25).
39. Уотт 1957: 44, Баркер-Бенфилд 1976: 329, примечание 9. Камера-обскура в 17-м и 18-м веках требовала от пользователя находиться в темных замкнутых пространствах, где он мог экспериментировать с восприятием и репрезентацией радикально новыми способами, поощряя фантазию и переосмысление самого себя и реальность. В конце 18-го и начале 19-го веков популярной формой развлечения было привидение или “шоу призраков”; призраки или “фантасмагория” были популярными занятиями (чему способствовала широкая аудитория готических романов) и поощряло фантазию и воображение. Тогда это не обязательно было чем-то новым, но здесь это рассматривалось как рациональное упражнение, исследование возможностей разума. С одной стороны, призраки не считались реальными, но, с другой стороны, были “реальны” в ощущених, что они были реальными продуктами различных состояний ума (безумие, креативность и т.д.). Известные как “парадокс рационалиста” (Касл, 1988), эти ментальные фигуры были “реальными” во многом потому, что они были продуктом чьих-то усилий, подобно “восстановленным воспоминаниям”. Позже, в XVIII и XIX веках, в некоторых домах появились очень маленькие отсеки, используемые для частного чтения романов, и в текстах того времени содержалась критика того, что называлось “культурой чуланов”, развитием потайных мест где развивались скрытые личности и виды деятельности (Хантер 1990: 157f). Сознательно или нет, гей-метафоры туалета, ныне прочно вошедшие в американский лексикон, давно вошли в обиход из-за опасений, что неконтролируемые ситуации порождают запретные желания, порождающие неконтролируемую личность, особенно среди молодежи.
40. Джон Тодд, 1835, Учебное пособие для студентов, в Barker-Benfield 1976; Brown 1940:7, цитируя критика 1798 года. Примерно 160 лет спустя все еще высказывалась та же озабоченность. Кэннон [без даты] предостерегла молодых девушек от чтения любовных журналов и романов, потому что “редко кто читает встретьте что-нибудь похожее на нормальную здоровую любовь”.
41. Цитата взята из текста 1632 года (Wickham 1963:95). В Америке 18-го века театры часто рассматривались как притоны несправедливости, и в революционный период в ряде городов были запрещены пьесы и другие театральные представления, обычно потому, что они были шумными и жестокими, хотя там также упоминались какие-то сексуальные грехи (Harris 1973: 36). Это мнение не было всеобщим; Франция 19 века проявляла некоторую заботу о добродетели молодых девушек на ярмарках, фестивалях и тому подобном, но это чувство не было таким морально оскорбленным и апокалиптическим, как в Англии и Соединенных Штатах.
42. Цитируется по Леонарду 1964, опередившему восприятие Денсена-Гербера примерно на шестьдесят лет.
43. Блумер и Хаузер (1933) и Чартерс (1933) являются публикациями исследований Пейна на тему кино и молодежи; см. также Skal (1993). Основное внимание было уделено криминалу и новому жанру фильмов ужасов, хотя после 1933 года все фильмы подверглись цензуре.
44. Болельщиками были как женщины, так и мужчины; Баркер (1984:42, 209, примечание 6) говорит, что в 1954 году Англия, 66% читательниц комиксов ужасов были молодыми замужними женщинами. Скал ссылается на американский опрос, согласно которому большинство читателей комиксов были взрослыми, но 40% всех жителей США старше восьми лет читали их в начале 1950-х годов (1993: 230).
45. KENS-TV (CBS), Сан-Антонио, Техас, выпуски новостей с ноября 1994 по начало июня 1995.
46. Пропавшие без вести и эксплуатируемые дети Америки: их безопасность и их будущее, 1986, Министерство юстиции, Управление ювенальной юстиции и профилактики правонарушений, стр. 30, passim. То Правление также настаивало на том, что право детей на защиту определенно не включает свободу от опеки. В 1992 году 11-летний “Грегори К” подал в суд на разлучение со своими родителями, чтобы его могла усыновить приемная семья. Ему разрешили, но Флорида обжаловала “развод”, и в конце 1993 года суды постановили, что несовершеннолетние не могут разводиться с родителями самостоятельно.
47. McBee 1985; см. также Gore 1987. Первоначально PMRC хотел получить рейтинги альбомов, во многом похожие на коммерческие фильмы; “X” обозначало бы секс, “V” означало насилие, “O” - оккультные отсылки, а “D/A” за наркотики и алкоголь. Рейтинги будут применяться только в том случае, если тексты песен пропагандируют эти развлечения, а не если они направлены против них.
48. Аноним 1992j. В том же месяце Хиллари Клинтон была показана в главной новостной передаче CNN (23 ноября 1992 года) рука об руку с Барбарой Буш в качестве членов новейшей антипорнографической группы “Хватит”. Они заявили, что выступают против “жесткой порнографии и детской порнографии”. В эфире были показаны видеозаписи очень маленьких детей, играющих на школьном дворе, с голосом за кадром, говорящим, что “Каждая четвертая девушка подвергнется сексуальному насилию в возрасте до 18 лет”. Затем визуальные эффекты сменились показом обложек коммерческих журналов “детское порно” и журналов для нудистов, создавая впечатление, что они все еще в обращении, несмотря на то, что они были запрещены в течение пятнадцати лет.
49. 29 ноября 1989. В то время подобные изображения использовались каждый год. Излишне говорить, что нет никаких доказательств цифры “70%” из цитируемого письма 1990 года.
50. Аналогичный инцидент был использован в апелляционном письме от 23 ноября 1988 года, только тогда это было говорят, что в нем участвовали “дюжина шестиклассников, экспериментирующих с гомосексуалистским сексом в комнате для мальчиков”. Шоу и Фрумкин (1989) озаглавили свое разоблачение “пятиклассники обвиняются в принуждении мальчиков к половым актам”, но поскольку цитируются только данные полиции, нельзя сказать, в чем на самом деле заключалась ситуация.
51. Сассман 1990. Он начинает с анекдота о неназванной газете, которая пыталась распространить историю о том, что “Кристиан Диор выпустил сексуальные лифчики для 4-летних девочек, предположительно, лолит на тренировке”; есть иллюстрация девочки с макияжем, одетой в “демисезон” вопрос. Смотрите Klein 1993 для широкого обзора.
52. Mandese and Fahey 1992. Авторы отмечают, что все телеканалы соперничают за долю рынка, и Fox, лидер на тот момент, удвоил количество часов детских программ в сезоне 1992-1993 годов до 20 часов в неделю.
53. Spethmann 1992. Интервью один на один рекомендуются для уменьшения “давления со стороны сверстников”, но Синди Кларк, владелица своего маркетингового агентства, ориентированного на детей, сказала: “Проводя интервью с детьми в одиночку, легче выявить их наиболее уязвимые стороны”.
54. Winski 1992. Цитируется высказывание представителя Pizza Hut, отвечающего за маркетинг для детей Nickelodeon “делает своим делом знакомство с детьми и проникновение в их головы”. Nickelodeon в то время был крупнейшим производителем оригинальных программ для детей.
55. Донатон, 1992. Молодежные журналы активизировали исследования, направленные на увеличение продаж и привлечение рекламодателей; “Мы знаем, какие кнопки на самом деле стимулируют продажи в газетных киосках”, - сказал издатель журнала YM Алекс Миронович. В 1995 году YM, ориентированный на возраст от 12 лет, подвергся резкой критике за использование печально известной рекламы джинсов Calvin Klein, характеризуемой как “детский помпон”.
56. Кумит 1992. Что-то вроде руководства “Как вести коммерцию с детьми”, с такими советами, как "Знай свою нишу, позиционируй свой продукт, рассказывай о себе, продавай картинки, положи это на музыку, продвигай это вперед, не проповедуй, делай это весело, группы динамичны, будьте новыми, но знакомыми".
57. “Свяжитесь с ним там, где он живет”, “Его первая дневная работа - детский сад. Модем может включить спонсируемые вами учебные материалы в план урока. Если он на вашем целевом рынке, позвоните нам...”
58. Обещающий доступ к “23 миллионам детей, посещающих школу”, наряду с корпоративными спонсорами и картой Discover.
ГЛАВА 5
1. Кауфман 1984:97, рис. 8; с. 100, рис. 10с. Девочки не были представлены в качестве подруг сатиров и панов, вероятно, из-за их более низкой социальной ценности.
2. Хоффман 1987:17. Этот рассказ был приписан Марку Корнелию Фронто (100-166?) Минуцием Феликсом в первой трети III века н.э. (Октавий, глава 9, параграфы 5-6, у древних христианских писателей [G. W. Clarke, ed.]; стр. 65; Нью-Йорк: Newman Press, 1974). Большая часть того, что мы знаем о христианских сексуальных религиях, исходит от критиков, христиан и язычников. Все эти секты были истреблены как ереси в ходе кровавой внутренней борьбы за власть в христианском мире. Смотрите также Уокер 1983: 120, 129.
3. Кальвин 1982: 279; он выступал против групп, которые, по его мнению, были наследниками Свободного Движение духа, особенно французские квинтинисты XVI века, которых он называл либертинами.
4. Из "Духовных наставлений" Яна ван Рейсбрука, священника и инквизитора 13 века, перепечатанных Ванейгемом 1994: 147f Ссылка на мужчин вводит в заблуждение, поскольку многие лидеры были женщинами.
5. Смотрите форум, посвященный опасным связям в восемнадцатом веке (том 14, номер 2, 1990, стр. 39-107). Статья Брами более конкретно посвящена либертинизму, особенно концепциям 20-го века. Более ранние современные романы, в первую очередь Сэмюэля Ричардсона (Памела [1740] и Кларисса [1749]), уже установил взаимозависимость образов агрессивного злого сексуального мужчины и уязвимой страдающей асексуальной женщины.
6. Драматург XVI века Торквато Тассо, использующий элементы поэмы XIII века, “Роман о розе” Жана де Мена, предложенный "Если это приятно, это разрешено". Поговорка остается популярным атрибутом либертинизма. Хейден в своей документальной драме о ребенке, предположительно ставшем жертвой ритуального насилия (1991:294), приписала высказывание “Делай, что хочешь” Алистеру Кроули. Автором ужасов Цитировались слова Клайва Баркера: “Что бы ты ни хотел сделать, делай это” (Winter 1991:31), и действительно, на постере фильма Баркера “Восставший из ада” в вестибюле есть строка, которая гласит: "Ограничений нет". Баркер утверждал это относилось и к его собственной работе (Баркер и Этчисон 1991:47), но позже он перешел к "Может быть, там". Позиция “Есть некоторые ограничения” (стр. 57, особенно для людей младше 15 лет), в которой говорится, что философия ответственна "за удовлетворение многих ненормальных сексуальных или насильственных побуждений". Телевизионный рекламный ролик спортивной обуви Reebok в апреле 1993 года перенес потребителей на “Планету Reebok”, где философией были “никаких ограничений”, “без границ”, “без правил”, “без остановок”, “без барьеров”, а слоган “Без лозунгов!” реклама обуви Nike 1980-х годов “Just Do It” (видна на футболках, с вариацией “Just Do Me”), также несли в себе часть смысла этой разновидности либертинизма. Лео (1995) перечисляет аналогичные коммерческие лозунги начала и середины 1990-х годов.
7. Возможно, лучше всего это выразил драматург конца 19 века Фрэнк Ведекинд: “У плоти есть свой собственный дух”. Ведекинд был известен сочувственным изображением подростковой сексуальности в своих пьесах, и его произведения иногда запрещались, и он был заключен в тюрьму за оскорбление некоторых чувств.
8. Бриссенден 1974: 86ff. Сентиментальные периоды также кажутся периодами возобновления фундаменталистского религиозного пыла.
9. Хотя большинство из них, по-видимому, не имели ничего общего с сексуальным насилием. Действительно, как и у педофила 20-го века, злодейская интенсивность образа распутника может в значительной степени отражать проецируемую вину за более широкое жестокое обращение и несправедливость и попытку отвлечь от них внимание, будь то отрицание прав женщин в 18-м и 19-м веках либералами или широко распространенное жестокое обращение с детьми гетеросексуальными родителями и опекунами детей в 20-м веке (Иорданова 1980, Гревен 1990).
10. См. Turner 1985. В 16 веке возник общий тип, который мы бы назвали “дьявол”. Сыгранный в роли преступника, персонаж был неистовым и неуправляемым; крайне опасным и разрушительным, его путь был отмечен жестоким беспричинным насилием и убийствами. Подтипом, который должен был завоевать популярность, был выдающийся гражданин, скрывающий в себе дьявольский характер, более полно утвердившийся в это время, также была идея о том, что существует необходимая связь между дьяволом и незаконной сексуальностью (Папке 1987: 27ff).
11. Дика 1990. Фильм "Жертвы для жертв" был одним из нескольких, которые помогли настроить жертву роли. Этот конкретный фильм интересен тем, что звезда играет в нем саму себя, жертву преследующего фаната, который напал на нее с ножом. “Жертвы для жертв” - так называлась группа поддержки жертв. Первый закон против преследования был принят в Калифорнии в 1990 году, и к 1993 году в большинстве штатов действовали аналогичные, хотя часто неэффективные законы.
12. Коминос 1972. Хардвик (1974: 182) высказывает аналогичную точку зрения о том, что раздутые обвинения в невиновности затмевают любые сексуальные правонарушения предполагаемой жертвы - тактика, широко использовавшаяся в 1980-х годах.
13. Строка из "Даранзе", мелодрамы 1800 года, цитируемая Гримстедом (1968:178).
14. Почти точные образы остаются популярными, и один из них используется в фильме "Некромантик" см. Керекес 1991 для иллюстраций.
15. Одним из лучших проявлений этого стало сочетание кинематографа Николаса Роуга, режиссуры Роджера Гормана и актерской игры Винсента Прайса в фильме 1964 года по рассказу Эдгара По.
16. Сэнфорд 1961: 106f Еще в 1670-х годах формирующийся образ распутника помог добавить сексуальный элемент в конфликт между внезапным расширением американских городских центров и преимущественно сельским населением (Новак 1977).
17. Фуко (1980) предполагает, что социологическая идея “девиантности” (все еще являющаяся предметом академической специализации в области социальных наук) возникла в 18 веке как стратегия дистанцирования классов, расизма и колониализма.
18. Для профессора Рашке “сатанизм - это идеология декаданса” (1992: 135), а массовая культура была “культурой декаданса” (стр. 347). “Необарбаризм” - это его термин, обозначающий потакающую своим желаниям разновидность либертинизма, “полную, приятную и невинную эксплуатацию "самых темных" побуждений человеческого существования” (стр. 138). В своем гневном выступлении он также назвал несколько типов персонажей "распутниками”. Для Лео (1995) реклама джинсов Calvin Klein 1995 года была “декадентской.”
19. Нордау 1895:18, используя термин, введенный Модсли в 1874 году. Таковы истоки клише Эмраермана (1985a) о педофилах как о “пограничных психотиках”. В книгу Нордау “Пограничный разум и ярко выраженное безумие” включены люди, известные как “графоманы”: “полубезумные личности, испытывающие сильное желание писать” (стр. 18). Его книга, одна из многих написанных им, является более 560 страниц плотного текста со сносками, вполне подходящего для его предмета и соответствующего германскому стилю обучения. Эммерман — автор множества статей на эту тему — процитировал психиатра, который утверждал, что педофилов заставляют писать “трактаты”. Практически любой критический текст подвергался презрению во время истерии 1980-х годов. Узнав об этой рукописи, один возмущенный оператор телевизионных новостей спросил меня, почему я чувствую себя “вынужденным писать такие книги”. Я предложил ему получить мнение эксперта, предпочтительно того, кто публиковался на эту тему.
20. Нордау 1895: 557; 266, 551. Порнографами для него в данном случае были художники XIX века Реалисты, такие как Золя и Ибсен, а также писатели, подобные Ницше.
ГЛАВА 6
1. Один из видов репрезентации, который мог бы быть ценным для изучения, - это карикатуры, изображающие взрослых и детей с сексуальным подтекстом. Презентация Райзмана (1991: 98-137) не содержит ничего ценного. Ее проект, финансируемый из федерального бюджета, подвергся широкой критике и осмеянию (Thornton 1985a, 1985b) за его завышенный бюджет, поскольку в нем определенно не говорилось, были ли карикатуры “причиной” растления малолетних (Арлен Спектор, R-PA), или из-за общей непонятности (Говард Метценбаум, D-OH).
2. Его пальто также расстегнуто, что свидетельствует о сексуальных отклонениях (как у эксгибициониста в плаще) или о сексуальной готовности. Плащ в фильме 1930-х годов стал ассоциироваться с героизмом частного детектива, но, протащенный сквозь грязь фильмов нуар и остросюжетной фантастики, он появился в 1950-х годах как потрепанный и грязный признак извращенца.
3. Воспроизведено Фридманом 1987:93. На картинке и в обстановке изображен мусорный бак кажется, что он находится в тенистом переулке, усиливая тематические элементы маргинальности и опасности, а также загрязнения благородства, здоровья и невинности грязью, нечистотами и отвратительными отходами; сравните с аналогичной обложкой романа "Палач" (Mertz, 1986). Стоит также взглянуть на обложку журнала 1947 года; это снимок головы молодой девушки, которая якобы надувает воздушный шарик, но ее щеки втянуты, и на самом деле она сосет кончик соска красного воздушного шарика.
4. Он появлялся в различных формах в киносериалах (“Железный коготь”, 1916, "Сжимающая рука" в “Подвигах Элейн", 1915, "Сжимающая рука", 1936), был стандартным визуальным приемом в "желтом Опасность” в фильмах 1930-х годов (удлиненные ногти, предположительно характерные для декадентствующих азиатов, также используются на многих фигурах роковых женщин с когтями), в романах (“Сжимающая рука” Артура Рива, 1934), комиксах ("Коготь" в комиксах "Серебряная полоса", 1939, и в комиксах "Адский всадник", 1971 год; “Клау” в комиксах "Фантастическая четверка", 1966), бесчисленных политических карикатурах справа и слева, в полемических средствах массовой информации, таких как коммерческие и классные фильмы против наркотиков, и так далее. На наружней рекламе рекламных щитов 1950-х годов были изображены две огромные узловатые темные руки, похожие на когти, тянущиеся к испуганной маленькой девочке, держащей куклу; слоган на щите гласит: "Сделайте наши дома и улицы БЕЗОПАСНЫМИ! Голос РЕСПУБЛИКАНЕЦ” (Хендерсон и Ландау 1980:50).
5. Ситро 1987. И в работах Джонстона, и в работах Ситро фигурировали дети, которые могли видеть затаившееся зло там, где никто другой не мог.
6. Том 2, #4 (ноябрь/декабрь), 1986, стр. 5. Карикатура является иллюстрацией к истории о ребенке из Южной Каролины, которого забрали у родителей в 1984 году при вопиющем нарушении надлежащей правовой процедуры. A вариацией из того же источника является иллюстрация на обложке информационного бюллетеня VOCAL за март/апрель 1987 года (том 2, #6), на которой изображен плачущий взрослый мужчина за решеткой, “нарисованный матерью заключенного” для “Операции Заключенный”, в которой людей просили написать людям, которые чувствовали, что они были незаконно заключены в тюрьму по обвинению в жестоком обращении с детьми.
7. Смотрите обложку журнала Ms magazine, август 1977 г.; также использовались очень крупные планы лиц, как в Руни, 1983. Значительная часть изображения детской виктимности заимствована из иконографии созданная Уолтером и Маргарет Кин в начале 1960-х годов. Известная как школа живописи "Большой глаз", Кины обычно изображали детей женского пола с сильно непропорциональными глазами, которые были заплаканными или печальными, худыми или деликатными и часто одинокими. Подвергшиеся резкой критике со стороны истеблишмента современного искусства, эти фигуры теперь являются частью американского культового воображения (см. Парфри, 1995). После Второй мировой войны в рекламе благотворительных организаций начали использовать такие фотографии, и к настоящему времени они стали рекламным жанром, который часто можно увидеть в журналах и на телевидении. Эта эстетика фигурировала на некоторых фотографиях WPA Америки 1930-х годов и фотографиях времен Второй мировой войны, но использование внешности детей не было столь целенаправленным, как в более поздних маркетинговых и пропагандистских кампаниях. Гравюры для журнальных и книжных иллюстраций невинного детского жанра 19-го века также содержали что-то из этого, но изображения были заимствованы из театральных условностей. Более прямые корни традиции были заложены в Великобритании и Соединенных Штатах в конце 19 века. Наиболее известным был лондонский миссионер Томас Джон Бамардо. Он начал фотографировать уличных мальчишек в 1870 году, открыл свой первый дом для мальчиков в 1871 году, а в 1874 году открыл в этом доме свой фотографический отдел. По словам Бамардо, целью этих фотографий было, во-первых, “проследить будущую карьеру ребенка” и поразительным контрастом между “до” и "после” задокументировать благотворительность и героизм его усилий. Во-вторых, Бамардо сказал фотографии были ценны “для того, чтобы облегчить распознавание мальчиков и девочек, виновных в преступных деяниях, таких как кража, взлом или поджог, и которые могут под ложным предлогом получить доступ в наши дома”, что имеет большое значение для его авторов. Критики Бамардо жаловались, что Система фотографирования детей и наживания на них капитала не только нечестна, но и имеет тенденцию разрушать лучшие чувства детей. Метод Бамардо заключается в том, чтобы снимать детей такими, какими они должны быть на входе в школу. Домой, а затем после того, как они пробыли в Доме некоторое время. Ему не нравится принимать их такими, какие они есть на самом деле, но он рвет на них одежду, чтобы они выглядели хуже, чем есть на самом деле. Они также взяты в чисто вымышленных позах (цитируется и приведенная выше информация в Lucie-Smith 1975: 42-44). Бамардо также разработал схемы отправки детей в Канаду для усыновления приграничными семьями, аналогичные операциям “Сиротских поездов” в Соединенных Штатах (см. главу 7). Более серьезно. Бамардо использовал то, что он назвал “филантропическим похищением”, когда он чувствовал себя оправданным в похищении детей из семей, которые, по его мнению, не воспитывали их должным образом; ему почти 90 раз предъявляли обвинения в этом в суде. Банта и Хинсли (1986: 103f, таблицы 99 и 100, стр. 105) ссылаются на неопубликованную статью Джеймса Гимонд, в которой отмечалось, как детей американских индейцев и афроамериканцев, считающихся конституционно “зависимыми” или “недостаточно развитыми” расами, с 1878 по начало 1920-х годов водили в Хэмптонский институт в Вирджинии и фотографировали в том же стиле "до и после", чтобы показать преимущества обучение “трудолюбию, бережливости и трезвости”.
8. Такого рода выставки, безусловно, не новы. Одной из наиболее известных была Выставка “Дегенеративная Искусство", проводившаяся немецкими национал-социалистами с начала 1930-х по начало 1940-х годов. Адольф Циглер, президент Имперской палаты изобразительных искусств, недвусмысленно высказался о намерениях таких экспозиций; “То, что предлагает эта выставка, внушает всем нам ужас и отвращение” (Barron 1991: 45, 180ff). Пропаганда вуайеризма является общепризнанной частью кампаний по очищению.
9. Разновидность этого образа включала представление “злых”, “плохих” или преступных детей, особенно в конце 1980-х, что совпало с ростом популярности образов злых клоунов. Иллюстрация к куртке для книги Магида и Маккелви (1987) о детях-преступниках был изображен плюшевый мишка с отрезанной ногой. Здесь плюшевый мишка все еще олицетворял невинность, но ущербного вида, аналогично его связи с предполагаемыми последствиями секса между подростками и взрослыми. Еще один вариант заключается в том, что значок переворачивается и олицетворяет зло, скрывающееся за фасадом невинности. Фильмы с участием плюшевых мишек-убийц (разновидность Игрушек из адского устройства в жанре ужасов) того периода - "Кровавая баня в доме смерти" (1985) и "Куклы" (1987); "Детская игра" (1988) в качестве еще одной вариации была представлена демоническая кукла. Есть также сексуальные плюшевые мишки, часто одетые в пояса с подвязками или кожаные, придающие новое значение этой маленькой улыбке.
10. Ландерс, 1992b. Игрушка “сбила бы с толку” детей, сказала Дебра Хаффнер, глава Совета по вопросам секса и информации Соединенных Штатов (SIECUS), в Лоусоне, 1992.
11. Фишер, 1988. Реклама (Los Angeles Times, 1 мая 1984, стр. VI-12, рис. 6.1) хвасталась тем, как Сатц работал с полицией над созданием истории, которая “спровоцировала бы возмущение общественности”. Они хорошо выполнили свою работу.
12. Прием плюшевых мишек "Поправляйся скорее" как представителей невинности и чистоты не всегда был сердечным. Сообщалось о сожжении плюшевых мишек (Anonymous 1991a).
13. Поворотным моментом стала популярность в 1980-х годах “Детей с мусорными ведрами”. Игрушечные фигурки гротескных детей, упакованные в маленькие пластиковые контейнеры для мусорных ведер. Связанные с жанрами игрушек монстры и фигурки боевиков, они могут быть материализацией предполагаемых искаженных детей, произведенных различными злодеями, например педофилом, но также и специалистом по абортам; изображение того, что должно было быть абортированным плодом в мусорном ведре, было одним из главных визуальных элементов кампаний против абортов. В более широком смысле мусорное ведро с ребенком может отражать подтексты страха и ненависти к детям, которые, кажется, всегда лежат в основе энергичных самодовольных движений по спасению детей. С другой стороны, они, возможно, были просто отказом от невинной чрезмерной привлекательности, приписываемая детям куклами из "Капустной грядки" и "общей теорией дня". Менее обремененные теорией, большинство детей получали от них удовольствие просто потому, что они были отвратительными.
14. См. Cohn 1988. Фотографии или видеозаписи героических полицейских под прикрытием также популярны, но часто их лица скрыты, что является ярким, но уместным проявлением безликой вездесущей власти.
15. Это было явным утверждением школы “ритуального насилия”. Смотрите Мораль в буклете для СМИ. Клише: Разоблачение дезинформации о порнографии и законе о непристойностях [дата не указана; середина конец 1980-х], Нью-Йорк: Morality in Media, Inc.: “Наводнять эфир и умы этих детей, похожие на губку, непристойными программами в чем-то сродни тому, чтобы ставить камень преткновения перед слепыми вместо того, чтобы пытаться наметить новые пути к высшим устремлениям”.
16. Вордсворт 1981: II:900-901, написанный в 1846 году, примерно во время появления "Лондон Иллюстрейтед Ньюс".
17. Парады в той мере, в какой они требуют верности и заявляют о своей власти, также могут быть маршами, и наоборот, марши могут быть парадами, как во время гей-парадов, на которых протестуют и марши с требованиями освобождения превратились в общественные праздники. Кроме того, сатира и контрпарады могут быть легко объединены и поглощены традиционной культурой. Точно так же совместные парады могут стать одомашненными инструментами традиционных значений. Опять же, используя гей-парады в качестве примера, некоторые из них стали печально известны тем, что исключили NAMBLA из числа участников, а также другие группы и стили, которые, по их мнению, слишком вредят стремлению геев к респектабельности.
18. Из этого правила есть существенные исключения как в музейной, так и в галерейной работе. Жалобы общественности из-за сексуальных или политических элементов экспонаты могут быть изменены или закрыты. Такая реакция на выставку связана не только с предметом или формой того, что выставлено, но и с авторитетом экспонентов. Такие выставки в любом случае, какими бы разрешенными они ни были, запускаются изначально и разрешаются на основе социальных предпосылок, о которых я упоминал.
19. Фуко 1965:70; см. также Туан 1984:83, Балдик 1987: 10ff.
20. Строка из книги Вордсворта (1959:260) “Прелюдия, или развитие ума поэта”, набросанная на Варфоломеевской ярмарке в 1802 году.
ГЛАВА 7
1. Гольдштейн 1991:23. Он также упоминает романы Робина Кука о медицинских ужасах 1980-х годов, в которых фигурировал “затаившийся левиафан, который нападает на неосведомленных в процессе игры”, часто используя умственно запутанные трюки и маскировку.
2. Оригинальное название его книги. "Сексуальная зависимость" было изменено в 1983 году на "Из тени"... чтобы избежать смущения потенциальных покупателей и увеличить продажи. Второе издание вышло в 1992 году.
3. Ранние критические статьи появились в гей-прессе в 1983-1985 годах (Sonenschcin 1985), потому что идея навязчивой сексуальности долгое время использовалась для оправдания контроля над гомосексуальностью.
4. Дуайт 1818: IV: 249, 250. Термин “привычный” использовался на протяжении большей части 19-го века как синоним зависимости. “Потакание своим желаниям” - это еще одно слово, подразумевающее роскошь, декаданс и извращенность.
5. Янг назвал анонимного автора книги “Моя тайная жизнь” (1888), в которой содержится ряд рассказов о сексе взрослых и молодежи, "сексуальным наркоманом" (1966: 26).
6. В комплекте с прилагающимися булавками, нашивками и сертификатами. Можно было также познакомиться с другими “извергами” и “переписываться с другими крепами”, приглашенными печально известным хранителем крипты (Дэниелс 1975:186-192).
7. Фрейнд (1972) продемонстрировал, что те, кого он называет “нормальными” мужчинами, обычно эротически реагируют на изображения ягодиц 8-11-летних мальчиков и девочек.
8. Старые формы монстров со временем становятся вполне одомашненными. В то время как в 1950-х годах были некоторые юридические споры по поводу театрального использования монстра Франкенштейна, Дракулы, Человека-волка и других, наконец, стали торговыми марками как “Официальные монстры Universal Studios” в 1991 году, изображения, требующие лицензий на их использование. Точно так же Фредди Крюгер, исполнитель главной роли в "Кошмаре на улице вязов". Фильм с середины по конец 1980-х годов, “когда-то был отвратительным, кровожадным педофилом”, но, судя по поздним 1980-м вызывал восхищение, его “обожали и почитали”, и он были “психо-иконой 80-х” (Баюн, 1989). Монстры, возможно, из-за того, что в них вложено так много личного и культурного багажа, они, как правило, шатаются и терпят крах за относительно короткие промежутки времени. Но ядра остаются, и когда необходимо создавать новые, они — поэтому должны быть — знакомы. И, конечно, если бы было меньше монстров, было бы меньше жертв и героев.
9. Бойл 1989: 129f, I46f. Многие рассказы конца 19-го века описывали жестокость по отношению к детям, и Бойл видит параллель с 1980-ми годами, полагая викторианскую литературу сенсаций и журналистику “бросил вызов” официальной отрицающей культуре (стр. 132f, 185, passim). Он считает, что это хорошо, но Бойл не видит, как стремление к сенсациям чаще всего является частью процесса, определяющего респектабельность и героизм репортера, которые официальная культура использует, по собственным словам Бойла, для “самодовольной и избирательной дискриминации, которая, в свою очередь, обеспечивает усиленную идеологическую базу исходя из этого, массовая эксплуатация, даже массовая резня могут быть оправданы как необходимое дополнение к прогрессу” (стр. 22).
10. Хейден 1991:63: “идеальный сценарий для фильма ужасов”; стр. 84: то же самое, плюс интересно, будет ли подросток иметь доступ к фильмам ужасов “или, что еще хуже, к некоторым порнографическим”; стр. 199: ее парень говорит, что ее подозрение “звучит как сюжет плохого романа”; стр. 223: коллега связывает сатанизм, о котором думает Хейден, с фильмами ужасов, “грязными” книгами и “сенсационное газетное сообщение”; стр. 293: “безумие в фильмах ужасов”; стр. 295: художественная литература ужасов; стр. 297: “отвратительная смесь Стивена Кинга и National Enquirer”, также стр. 302.
11. См. Рабинович, 1995. Вайолет и Шерил Амиро были освобождены в 1995 году, когда судья удовлетворил ходатайство о новом судебном разбирательстве, но в начале 1997 года Верховный суд Массачусетса восстановил их обвинительный приговор, и они были возвращены в тюрьму.
12. Эксплуатируемые и пропавшие без вести дети: Слушания в Подкомитете по ювенальной юстиции, стр. 1-17. Сенат Соединенных Штатов (97-й Конгресс): Правительственная типография, 1982, стр. 9; 7f.
13. Министерство иностранных дело 1985. Председателем снова был Арлен Спектор. Его воинственный и презрительный допрос свидетелей транслировался по национальному телевидению, когда он допрашивал Аниту Хилл на слушаниях 1992 года по ее обвинениям в сексуальных домогательствах со стороны кандидата в Верховный суд Кларенса Томаса. Спектор недолго был кандидатом в президенты от республиканской партии в 1995 году, называя себя “социальным либертарианцем”.
14. О'Брайен 1986: xvi. В качестве награды за ее вклад в десятилетие она была приглашена Рональдом Рейганом в Белый дом, чтобы присутствовать при подписании Закона о защите детей 1984 года.
15. О'Брайен 1986: xvii. Она также включила примечание о том, как были получены ее данные. Она обратилась к тюремным консультантам и попросила их “спросить, согласились бы какие-либо растлители малолетних дать интервью” (стр. xvi). В своем интервью “Чарли” она сказала ему: “Я ничего о вас не знаю, кроме того, что вы добровольно согласились дать мне интервью” и “я не знаю, почему вас арестовали или почему вы здесь. Вы растлевали детей?” (стр. 4f). Многие могут счесть это вводящей в заблуждение и неэтичной практикой.
16. Признания педофилов на правительственных слушаниях использовались для представления таких отчетов; Фергюсон 1985, Смит 1985.
17. “X” 1985: 117-143. Некоторые полагают, что это одно из влияний Набокова из Лолиты.
18. “Секреты растлителя малолетних”, 10 марта 1995, Arts and Entertainment network. Ведущий Билл Куртис сказал, что мужчина утверждает, что испытывал привязанность к своим партнерам, но он сказал, что “экспертам виднее”. Руководителями шоу были терапевт и полицейский; консультантом программы был Николас Грот.
19. Эксплуатируемые и пропавшие без вести дети: слушания в Подкомитете по ювенальной юстиции. Сенат Соединенных Штатов (97-й Конгресс): Правительственная типография, 1982, стр. 16.
20. Донахью называл свою аудиторию “присяжными” (например, 3 апреля 1995 г.); Эми Фишер взволнованна, Джеральдо Ривера провел “суд” над Джоуи Буттафуоко в своем шоу, а A Current Affair провел “суд” над Фишером (Талер, 1994). Донахью начал свое шоу на местной радиостанции в 1967 году, но популярность и коммерческий успех этот жанр обрел в 1980-х годах, во время широко распространенного недовольства системой правосудия, страха перед преступностью и вызовами более явно плюралистического общества. Однако к концу 1995 года шоу начали критиковать за их “дрянной” или “порнографический” контент, основным аргументом было то, что детям может быть причинен вред от их просмотра (Брэди, 1995). В середине 1996 года Донахью записал на пленку свою последнюю программу, хотя многие другие продолжались.
21. Это часто является частью молодежной и сексуальной субкультур, части которые часто пересекаются. Билл Брент, редактор Black Sheets, посвятил выпуск борьбе с развратом как части переосмысления сексуально-позитивных ценностей и моделей поведения (том 1, #2, 1993).
22. Спэкс 1962: 111, цитируя Персиваля Стокдейла в 1778 году об использовании Греем европейских народных тем.
23. Walker 1964:29. Буквальная вера в Ад теологически пришла в упадок к концу 17 века, но продолжала находить светское выражение в юриспруденции, медицине, журналистике и психологии. Фундаменталистские религии с их акцентом на апокалиптическое будущее часто используют такие взгляды для оправдания социальной практики.
24. Быстрый неконтролируемый рост привел к хаотичной планировке городов, воспринимаемых как “лабиринты”. Анклавы расы и религии подпитывали страхи перед вторжением, подрывной деятельностью и насилием. Лабиринты навевают тайну, ужас, дезориентацию, маскировку, сюрреалистическую путаницу и двусмысленность — все это атрибуты привязаны лично к жителям (Майорино, 1991; Седжвик, 1980).
25. В литературе, религии и политике существует очень давняя традиция конструирования типов персонажей для нравственного воспитания и развлечения. Теофраст писал об этом в четвертом веке христианской эры, и средневековые христиане возобновили эту практику, восстановив связь между типами характера и политикой моральных авторитетов. Позже стал делаться акцент на физических свойствах характера (таких как телосложение, форма головы, сходство с животными), основанных в то время на медицинских теориях 18-го века, позволяющие авторитетно классифицировать нормальное и ненормальное.
26. Platt 1977; Taylor 1981; Katz 1983; Pleck 1987; Walkowitz 1992.
27. Джарао (1989:40) воспроизводит одну из таких иллюстраций из книги Хелен Кэмпбелл "Тьма и дневной свет, или Огни и тени нью-йоркской жизни" (1891) и др.
28. Стэнселл 1986:66; 195f В рекламном ролике конца 1850-х годов описывалось одно из этих произведений, обещая читателю, что “порок и злодейство этого безнравственного города будет раскрыт, и те, кто глубже всего погрязли в преступлениях и жестокости, будут разоблачены”. Жанр распространился и на научно-популярную литературу, и начиная с 1830-х годов факты подгонялись или изобретались в соответствии с требованиями жанра (Ноэль 1954:48, 12).
29. Розенберг 1971: 236, 241. В период с 1854 по 1930 год более 100 000 детей были отправлены в так называемые “сиротские поезда”. В 1987 году Общество наследия сиротских поездов провело свой первый съезд, его членство было связано с разоблачениями жестокого обращения с детьми в 1980-х годах и десятилетием пропаганды виктимности.
30. Одно из моих любимых изображений неряшливых городских элементов принадлежит Хаймелю (Heimel, 1991:156):
Они повсюду, они - чума в наших домах. Они появляются из глубоких пропастей прогорклого мрака этого города, чтобы пугать простых граждан. Их глаза горят красным от нетерпеливой злобы, когда они рыщут и пускают слюни по сточным канавам и переулкам наших улиц. Они - ядовитая эпидемия, оставляющая за собой болезни и разложение. Они — настоящее бедствие. Я ненавижу их. Меня от них тошнит.
ГЛАВА 8
1. Использование повседневных предметов в качестве орудий ужаса — распространенный прием. Это одна из причин, по которой панические образы наркотиков, а теперь и секса между молодежью и взрослыми воспринимаются как фарс. Использование повседневных предметов и отношение к ним человека имеет решающее значение для культивирования “восстановленных воспоминаний”, основанных на той же эстетике ужасов.
2. Мотив побега стал важным в произведениях 19-го и 20-го веков. Это фундаментальный образ Америки, который можно увидеть в 1970-х и 1980-х годах в рассказах о военнопленных, которые, как предполагалось, содержались в плену в Юго-Восточной Азии. Смотрите Bluefarb 1972, Franklin 1992 и главу 9 здесь об американском вторжение (и захват) вызывает панику в 1980-х годах. Обычно существует два вида альтернатив Возвращению, которые создают драматическую напряженность повествований о похищении и пленении. Один, более явный, заключается в том, что жертва не вернется, потому что ей мешают сделать это, силой или смертью. Другой, обычно не рассматриваемый или записываемый как расплывчатая угроза, заключается в том, что жертва не возвращается, потому что она связывается со своими похитителями. Возвращение к родным было главной темой во многих историях о пленении 17-19 веков, как и в научно-популярных текстах о сексуальном насилии.
3. См. Starr 1965, Sieminski 1990. Стейвс (1980:114) отмечает, что романы 18-го века полны рассказов о молодых девушках, которые были изнасилованы и/или похищены из своих домов, а Ноэль (1954:154) говорит, что 75% приключенческих историй в еженедельниках конца 19-го века были посвящены похищениям и плену.
4. К середине 1980-х фраза “[вставить имя] Дорогой” стала популярным сокращением для обозначения демонической сущности, скрытой за напускным фасадом родительской благожелательности. В 1993 году телеканал Fox выпустил в эфир короткометражный шоу, вращающееся вокруг мужчины и его отца под названием "Дорогой папочка", фраза относилась к отцу (Дон Рикис), который был бесчувственным, грубым и эмоционально оскорбительным. Шоу было комедийной ситуацией, своего рода документацией того, что значения, придаваемые таким концепциям в начале и середине 1980-х, изменились, подобно тому, как трагедия становится фарсом.
5. Thompson 1956: 132ff. Один из лучших примеров - Maggie Крейна. Книга была написана в 1893 году, но напечатана частным образом под другим названием, потому что никто не хотел ее публиковать, не столько из-за сюжета (было много историй о падших женщинах), но потому, что девушка более внутренне сильна, и потому, что социальные условия подвергались такой критике.
6. Одним из многих развлечений, которыми увлекались представители модного высшего класса в 19 веке, были экскурсии по домам падших женщин (Стейвз 1980: 117).
7. Стратфорд 1988:13, рассказывающая свою историю о “побеге из рабства и неволи” (стр. 16f) - это была бонусная история, предложение "купи-1-получи-1-бесплатно", история страдающего ребенка, на которую накладывается то, как этот ребенок, ставший взрослым, снова страдает по его пересказу. Аналогичная ценность присуща книге Кроули; она подробно описала свою дочь страдающию от предполагаемого жестокого обращения, а затем добавляет, что она тоже подвергалась растлению в детстве (1990).
8. См. Босс 1986, Эберт 1981. Хорошие обзоры фильмов эпохи “брызг”, которые совпали с истерией сексуального насилия над детьми, смотрите в McCarty 1989 и Schoell 1985. Глубоко укоренившиеся в идеологии подлости, такие фильмы оценивались в соответствии с их способностью шокировать и вызывать отвращение, критериями хорошего развлечения в этой субкультуре. Фильмами, получившими высшие награды от Джо Боба Бриггса в 1980-х годах, были "Заставь их медленно умирать" (1987:307f, 98 баллов по шкале рвоты) и "Демоны". (1990: 169ff, 97 баллов по показателю рвотных масс). В своем разделе “Прославление уродства” Medved отметил ряд фильмов, в которых речь идет о каннибализме, и особенно о рвоте и моче (1992: 108-173, почти 3 десятка фильмов, в основном конца 1980-х). Моррисон, приводя примеры романов ужасов, комментирует, что большая часть ужасов о трансформации тела в 1980-х годах “отталкивает... и наводит ужас, и это неизменно приводит к разочарованию и дегенерации, за которыми следует (иногда трагическое) подтверждение статус-кво” (1991: 174f).
9. Бодрийяр 1988:31, 35. Не совсем оригинальное наблюдение, но во время войны во Вьетнаме многие американцы характеризовали общество как культуру смерти.
10. См. Green 1986 и Grover 1989. Нормальное здоровое тело, определяемое и прославляемое в то время, было для многих также репродуктивным телом, и большая часть риторики против абортов отражала это. Это также присутствовало в некоторых нарративах, пропагандирующих выбор, отражая элементы представлений о сексе как об инфекции и болезнях более ранних времен, когда о плоде говорили как о паразите. И, конечно, антинаркотическая истерия была основана на идеалах естественного организма, функционирующего без химической помощи. Связанные с этим рассуждения также были вызваны возрождением экологии и широкой популярностью генеалогических интересов. Все это в совокупности привело к огромному акценту на регенерации, светском выражении христианского спасения.
11. На профессиональную представленность также повлияло то, что с середины 1960-х до середины 1970-х годов большое количество людей покидало традиционные ниши и карьерные пути, а также рост движений “независимых ученых”. Эти аспекты профессиональных изменений и коммерческой деятельности остаются неисследованными академическими социологами, в основном потому, что проблемы, которые они представляют, все еще слишком близки к реальности для беспристрастного анализа.
12. См. Sage 1988. Эта идея получила продолжение в 20 веке в романах ужасов и фильмах, в которых фигурировали звери внутри тела, одержимые дети, вторгающиеся в дома и так далее.
13. Слайд-шоу были основным продуктом феминистских групп по борьбе с порнографией, а некоторые из них организовывали экскурсии по магазинам и кинотеатрам, где были доступны материалы откровенного сексуального характера. Также популярны во время периодов были слайд-шоу групп, выступающих против абортов. Фрохок рассказывает, как однажды в начале 1980-х он попросил представителя "Права на жизнь" выступить перед его классом. Представитель хотела показать слайды, в том числе “мертвые плоды, изуродованные плоды после абортов, некоторые с оторванными конечностями и туловищами, изрубленные на куски, органы, искалеченные в результате аспирационного аборта и выброшенные в кусты или в мусорные баки” (1983:6); подобные фотографии использовались группами при пикетировании. Во время войны во Вьетнаме на демонстрациях часто можно было увидеть фотографии военных смертей и ранений, особенно убийств в Майлае.
14. Рассказы о “жертвах порнографии” были популярными и существенными компонентами этой драмы. Некоторые из этих идей были высказаны на слушаниях в Сенате в 1984 году под руководством Арика Спектора, и многие из них были представлены на слушаниях комиссии Миза в 1985 году. Фильмы и документальные ленты о смертельно опасных последствиях (от убийств, самоубийств или болезней) проституции и/или съемок в фильмах о сексе пропагандировались в 1980-х годах, особенно на телевидении.
15. Pienciak 1984a. Аналогичные заявления были сделаны о “восстановленных воспоминаниях”, то есть о том, что люди не стали бы намеренно вызывать воспоминания о сексуальном насилии и принимать статус жертвы, следовательно, воспоминания были правдивыми.
16. Сопротивление женщин, этнических групп и лиц с различными сексуальными интересами хорошо известно. Писатели и ученые-геи редко документировали ятрогенную природу психиатрии и других реабилитационных идеологий, хотя Дуберман (1991) делает ценный шаг. “Инвалиды” также сопротивлялись в начале 1980-х годов (Э. Кемп, 1981), что еще больше сузило круг доступных и восприимчивых клиентов и еще больше смущающих потенциальных помощников и сберегателей. Некоторая часть этого рынка была освоена теориями “восстановленной памяти”.
17. Гревен предлагает аналогичные тексты из христианских культов, которые оправдывают применение “контролируемой строгости любящими руками” родителей (1990: 36, 61, passim).
18. Причинно-следственные связи всегда использовались выборочно. Одним из примеров была Комиссия Генерального прокурора по порнографии, которая, заявив о неизбежном заражении от просмотра порнографии, попыталась принять законы, запрещающие различные виды сексуального самовыражения. Однако сами члены комиссии были освобождены от этой участи, некоторые из которых хвастались тем, сколько сексуальных фотографий им пришлось увидеть во время выполнения своего героического долга, но отрицали, что этот опыт нанес им ущерб.
19. Рассказы о подлости абсолютно необходимы, поскольку они определяют повестку дня для спасения и исправления, и особенно для ритуалов очищения как для жертвы, так и для злодея. Наука о поведении возникла в тесной связи с религиозными идеологиями (Greven 1990: 97, 108ff) и ее интересы криминалистов легко активизируются моральными взглядами их практиков. Этнография особенно ассоциировалась с функциями исповеди, в рамках которых, как колониальное упражнение, изучаемые мысли и практики были сформулированы и задокументированы внешним руководящим органом и для него (Klor de Альва 1988).
20. Общество... 1989. Заявление было написано в январе 1988 года Робертом Франкером, одобрено “Комитетом Общества по научным и профессиональным вопросам” (под председательством Ричарда Грина), и согласовано президентом Общества Дональдом Мошером, исполнительным директором Деборой Вайнштейн и Уильямом Фарреллом, фотографом обнаженных детей.
21. Триллинг 1972; Халттунен 1982; Уилкинсон 1983; Орвелл 1989; Зонтаг 1989.
22. Мур (1990) выразил обеспокоенность по поводу детской косметики и дезодорантов, а также слухов о “бюстгальтере в стиле Лолиты”, который преобразит или уничтожит детские тела.
23. Шредер 1938; Эдельман 1988. Появление эпатажной привлекательности как части готики частично основано на пессимистическом культурном контексте того времени, в котором были широко распространены подозрения что ничего не было реальным. Образы жестокого обращения с детьми в их готической форме были отражением этого в конце 20-го века; смотрите главу 9.
ГЛАВА 9
1. Следует отметить, что существуют типы “табуированных”. Одна из них - это те предметы или личности, которые помечены таким образом, но широко и часто игриво используются культурой для демонстрации того, что подразумевается под запрещенным; категория также используется для развлечения и демонстрации героических качеств тех (например, клоунов), кому культура разрешает затрагивать опасные темы. Другое - это то, что есть фактически боязливо отвергаемые для упоминания и исследования, такие как позитивные или несущественные сексуальные отношения между взрослыми и молодежью. Оба этих типа, часто приписываемые божественному велению, являются продуктом человеческой чувствительности и подвержены историческим колебаниям.
2. Известная мудрость 1980-х годов гласила: “умеренность - это нормально, если ее много”.
3. Бурстин, 1961. Почти за десять лет до этого Вагнер писал в Англии о “псевдосредах” (1954:186). В рамках озабоченности личной и социальной аутентичностью Халттунен (1982:24) обнаружил всепроникающие страхи по поводу влияния нового феномена 19-го века - знаменитости. Это также вызывало обеспокоенность в связи со значительно возросшим влиянием популярной культуры на молодежь. Беспокойство по поводу этого нового образования сопровождалось дебатами о том, были ли знаменитости “реальными” людьми и вели ли они “реальную” жизнь. Кроме того, в настоящее время обсуждается вопрос о том, желательно ли быть знаменитостью в качестве обожающих фанатов становятся преследующими угрозами. Голдман (1984) полагал, что “фанатская истерия” началась 30 декабря 1942 года на Концерте Фрэнка Синатры, когда молодые девушки кричали, падали в обморок и т.д. Голдман увидел “появление новой породы одиноких, влюбленных фанатов, которые проводили дни взаперти в своих комнатах, размышляя над фотографиями, сочиняя письма или просто вызывая в воображении фантазии об объектах своих желаний”. Эренрайх, Хесс и Джейкобс (1986: Лофф) считают, что "Битлз" были первыми знаменитостями, которые заявили о сексуальности женщин в возрасте 10-14 лет. Но Элвис и другие так преуспевали до "Битлз", и некоторые из них эстрадные певцы 1920-х и 30-х годов, возможно, оказали такое же влияние на молодых подростков. Эти тревоги напоминают фантазии 19-го века о том, как молодые люди читали романы, представляли сцены романтики или пошлости и мастурбировали.
4. Первый публичный музей открылся в 1683 году (Хантер 1990: 385, примечание 25). Наряду с ростом научных проявлений (в основном, господства человека над природой) возрос интерес к оккультизму (чему способствовал упадок организованной религии и расцвет свободомыслия), таким как спиритизм или готика, и интерес к преступному и катастрофическому. Эти две последние темы легли в основу дискурсов о подлости, как антиутопические противопоставления аккуратности механистической науки, экономической эксплуатации и административному регулированию, а также как способы выражения феминистских чувств.
5. Cramer 1991; письма Векслера и других опубликованы в номере за 1 апреля 1991 г. (том 37, номер 3) выпуск Time, стр. 8, и в Landers 1991a. Ранее, в 1985 году, Векслер писал, что “проблема жестокого обращения с детьми серьезна и реальна. Это фальшивые решения”. Сопутствующая статья в том же журнале, также содержала аналогичное мнение: “Я не хочу принижать проблему, которую [эксперты] поспешили решить: она реальна” (Эльштайн 1985:24). Академик Эльштайн, как и ее коллеги-журналисты, ранее ошибочно утверждала, что “сегодня ”детское порно" - обычный товар в интернет-магазинах", и обрушилась со всеми обычными либеральными банальностями на жанр, приписывая теоретические предположения всем без исключения:
Перед вами кошмарный фантастический мир, в котором потребитель порнографии наслаждается редкой иллюзией личной власти, притворяется, что испытывает неуловимую семейную нежность, в то же время выплескивая глубокую ярость, и избегает опасностей взрослой близости в эпоху смены половых ролей. (1984:19)
6. Это продолжалось и в 1990-е годы, когда реклама фонда “Точки света", пропагандирующего волонтерство, призывала людей "Почувствовать что-то настоящее!" (18 февраля 1993 года). Телевизионная реклама мороженого Breyers настаивала на том, что “разница реальна" (17 мая 1993 г.). В период огромной популярности модемной связи канал Discovery объявил конкурс, в котором зрители могли победить “Правда! Жизненное приключение”; “Это реально!" - восклицали они, призывая зрителей “Выйти из Интернета” (ноябрь 1994 г.). “Виртуальная реальность” в то время также привлекала большое возбужденное, но тревожное внимание. В июльско-августовском номере The Vine Reader (№ 82, 1997) было несколько запоздалых статей о реальности для их озадаченных читателей.
7. Фитцджеральд 1979: 12-16. Это стало особенно ясно, когда в начале 1990-х годов стало известно, что тексты по истории, представленные для использования в государственных школах Техаса, крупнейшем в стране рынке учебников, имеют более четыре тысячи фактических ошибок (Anonymous, 1992m; известные техасские текстовые обозреватели Mel и Norma Gabler насчитал 8000 ошибок).
8. См. Лифтон, “Поддельная вселенная”, 1973: 163-188. Другие армии и нации в другие времена прибегали ко все большей зависимости от мистицизма, самоисполняющихся пророчеств, все большей демонизации врагов и все большей приверженности идеологии.
9. Айви 1984. Айви понял, что образы дикости хорошо подходят для “функции жертвы".
10. Брайанс, 1987; он правильно заметил: “Жестокость и насилие в этих книгах были бы трудно преувеличить”.
11. Franklin 1992: 48ff, 96, 99. Один из наиболее интересных примеров работы Франклина относится к 1985 году, раскопки на месте крушения B-52 во Вьетнаме. В его распоряжении имеется газетная вырезка, в которой указаны личности двух выживших, которые были захвачены в плен (оба позже были освобождены через несколько месяцев). Эта идентификация в сообщении United Press International (UPI), как правило, не способствовала бы вере в каких-либо военнопленных в связи с этим событием. Последующий поиск Франклина в других новостных базах данных не выявил никакой дальнейшей идентификации или упоминания двух летчиков, лишь смутное представление о событии, которое сработало в обратном направлении: чтобы сохранить сомнения в судьбе военнопленных. Когда Франклин вернулся к просмотру электронной базы данных UPI, он обнаружил, что данные о летчиках и других важных элементах были удалены (стр. 170-176).
12. Джейкобс 1992: 310, Джейкобс, полагая, что он открыл “скрытый мир”, наполненный “тайными жизнями” (стр. 29), либо игнорировал насыщенность культуры рассказами о жестоком обращении и похищениях в то время (он академический историк), или отрицал какое-либо влияние СМИ или коллективное поведение (стр. 38, 42, 287f). Гарвардский психиатр Джон Мак (1994) также, по-видимому, не знал о других культурных источниках рассказов и, казалось, не обращал внимания на экономическую и политическую борьбу, в которой рассказы о жестоком обращении/похищениях были контекстуализированы. Работа Мака была оспорена и расследована официальными лицами Гарварда после того, как он появился в популярном телешоу, рекламирующем его исследования, хотя продвижение “восстановленных воспоминаний” коллегой-психиатром из Гарварда Джудит Херман не получило административной проверки. Другие были настроены критически, и в другом интересном объединении дискурсов о жестоком обращении/похищении, по крайней мере, один был близок к тому, чтобы обвинить рассказчиков историй о похищении в жестоком обращении с детьми. Рецензирование книги Стрибера, Трансформация, Новак (1988) чувствовал, что “Вызывает тревогу тот факт, что Стрибер вовлек своего 9-летнего сына Эндрю в потенциально тревожную фантазию и что он рискует причинить вред своей жене и сыну.”
13. Хеллманн 1986, Дитмар и Мишо 1991, Уилкинсон (1983) признал обширный жанр “нервный срыв”, тексты, определяющие 1980-е годы, охватывающие робость в политике и экономике, а также военную напористость.
14. Advertising Age, том 59, #47, стр. 40, 7 ноября 1988 г..
15. см. Vance 1984, Duggan и Hunter 1995, Виктор сказал, что “фрейм защитника детей”, который продвигал теории жестокого обращения, имел лишь поверхностное отношение к феминизму (1993: 223), влияние таких людей, как Флоренс Раш, Луиза Армстронг и многих других, не могут быть проигнорированы никем, исследующим эти проблемы, и раскол внутри британского и американского феминизма бушевал более десяти лет, прежде чем Виктор сделал свое ошибочное предположение о едином феминизме.
16. Спустя долгое время после разгара паники, журнал Ms magazine опубликовал на обложке псевдонимный рассказ о культе дьявола “выживший” (Rose, 1993). Журнал, примыкающий к более реакционному крылу феминизма, подвергся еще большим насмешкам за то, что напечатал статью без каких-либо подтверждающих доказательств, единственным обращением к читателю было: “Верьте этому!”
17. 25 октября 1988 года, NBC, более ранним шоу (16 мая 1985 года) было “Поклоняющиеся дьяволу”, сопродюсером которого для 20/20 был Кеннет Вуден, христианский активист и один из главных промоутеров Сатанистской паники. Для экспертов в программе были представлены два офицера полиции (одним из них был Сэнди Галлант, бывший агент политической разведки) и евангелист. Вуден распространил руководство по ритуальному насилию (включая контрольный список стигматов) среди более чем 3500 прокуроров по всей территории Соединенных Штатов и продолжал активно участвовать в своих рекламных акциях “Приманки для детей”. Статья о шоу Риверы (Бойер, 1988), в которой отмечалось, что спонсоры неохотно связывались с этой темой, вызвала ответ Вудена (Wooden, 1988), указывающего на его опыт в этой области и утверждающего, что “насильственные преступления, совершенные во имя сатаны, превратилось в поток растления малолетних, ритуальных пыток и убийств”. Шоу Джеральдо продолжало пропагандировать сатанистские заговоры (например, 28 июня 1995 года, рекомендуя книгу Фокса и Левина [1994]).
18. Как типично для любой паники, эта эскалация распространилась на другие элементы: частоту похищений, масштабы сатанизма, частоту убийств и, конечно, наркотики. Эпплбоме (1989) и Вудбери (1989) распространил страх перед сатанизмом и изменил предполагаемый оборот наркотиков сектой Матаморос с полтонны марихуаны в месяц до тонны в неделю.
19. Фельдман 1989:24. Как и дела о жестоком обращении с детьми, судебные процессы в зале суда являются таким же узнаваемым жанром, как и любая художественная литература (Hariman 1990); прокуроры и репортеры особенно обыгрывают стандартные сюжеты и образы, чтобы определить и навязать свои взгляды, отправляя людей в тюрьму.
20. Александер 1990, 1991; Хикс 1991а; Ричардсон, Бест и Бромли 1991; Уоттерс 1991.
21. Проблемы в 1990-х годах сместили акценты. Ли (1994) предупреждал родителей, что дети должны находиться под присмотром при использовании онлайн-сервисов и относиться к сетям как к миру незнакомцев. Эти тревоги усиливали особый страх перед киберпреступностью (мой термин, извините). Явный страх заключался в том, что дети “наткнутся” на сексуальные образы и получат травму; скрытый страх, конечно, заключался в том, что дети будут искать эти репрезентации. “Закон о благопристойности в сфере коммуникаций” 1995 года имел целью ограничить доступ к изображениям сексуального характера, которые, как утверждается, немедленно доступны несовершеннолетним через Интернет. Некорректные цифры из исследования Марти Римма в Georgetown Law Journal были дополнительно искажены или сфабрикованы политиками, и журнал Time снова обнаружил, что пытается оправдать свою дезинформацию (Элмер-Девитт 1995a, b). Другим страхом было аналогичное беспокойство по поводу молодежи: “онлайн-зависимость”. С этой целью Ли перечислил стигматы “онлайн-наркомана”: “ребенок целыми часами сидит за компьютером”, вы входите в комнату, и ребенок немедленно выходит из системы или отключает экран“, ребенок попадает в ”какой-то список рассылки по электронной почте", и постоянно популярное “негативное изменение в повседневном поведении”.
22. Приятной разновидностью этого можно было бы назвать игру "человек-в-машине-монстре". Первый “Монстр-трак”, снежный человек, был раскручен примерно в 1974 году Бобом Чандлером, и к началу 1980-х показы и соревнования получили широкое распространение и увеличили их популярность. Гротескные грузовики с огромными шинами, названные в честь ужасов и убийств, наслаждались сокрушительными рядами пассивных, устаревших, обычных автомобилей — очень похоже на дерби по сносу после Второй мировой войны, но с воинственным настроем 1980-х годов. Также в это время значительную популярность приобрела игрушка-трансформер. Фигурки героев, в основном мужчины, изобретательно превращающиеся в машины и/или монстров.
23. Исследования, связывающие расстройства пищевого поведения и любой вид секса между взрослыми и молодежью, начали появляться в середине 1980-х; см. Thompson 1994: 46-68.
24. Психиатр Фрэнк Патнэм и другие, цитируется в книге Гоулмана 1988а. Параллель с ведьмами дореволюционного периода почти такая же. Ведьмы также могли по желанию превращаться в животных, маскироваться под других людей и так далее. Среди тех, у кого диагностирован MPD, сформировались своего рода кадры, разновидность движений Фронта освобождения психически больных 1960-х и 1970-х годов (разбавленных “Выживший восьмидесятых”); они называют себя “Множественными”, гордясь демонстрацией и проявлением своих многочисленных личностей и сопротивляясь “полной интеграции” — истинно постмодернистскому образу бытия.
25. В ремейке, где существо вселяется в человека и преобразует его тело в дурацкую трансформацию, результат очень похож на идею из “Вторжения похитителей тел” 1978 года: “Ему нравится прятаться” "Я не знаю, кому доверять", - говорит один персонаж. Также в соответствии со временем герой отвечает: “Уповай на Господа”.
26. Меня поражает, что большая часть тревожных образов трансформации тела, появившихся в 1980-х годах, имела корни не только в традициях ужасов (особенно в комиксах ужасов 1950-х, итальянских фильмах ужасов 1960-х и американских фильмах конца 1960-х и далее), но и в широко просматриваемых фильмах о сексе одного из их золотых веков, начало-конец 1970-х годов. Изображения тела тогда значительно изменились, поскольку нагота, сексуальные позы, детали гениталий, коитальные позывы, эякуляция и другие жидкости и выделения, а также другие элементы тела превратили частное и интимное в изображения, которые были публично показаны и с социальным разделением также связаны кратковременным всплеском экспериментов многих с групповым сексом в то время. В комедии “Взрыв” середины 1980-х годов личные телесные функции, сексуальные чувства и события стали основой для большей части юмора. Комедийное использование этого материала (старая традиция шоу-бизнеса) было связано с комментариями о способах ведения дел, особенно в контексте тревог, связанных с отношениями во времена СПИДа.
27. См. Твитчелла (1985:30, примечание 14), который согласен с удалением из-за “большей осведомленность о растлении малолетних”, но он говорит, что общество не в состоянии оценить “социальную полезность ужаса”.
28. Кан 1985: 133. Джонсон (1992) признал рост популярности фильмов ужасов и криминальной литературы среди детей в возрасте от 8 лет. Она процитировала популярных психологов, которые сказали, что детям нравится испытывать волнение, все еще чувствуя себя “под контролем”, и быть способными испытывать агрессию, “не доводя дело до конца”. Как выразилась психиатр Ленор Терр. Они не увидели причин для беспокойства; кроме того, “книги заставляют детей использовать свои навыки чтения”. Краткий телевизионный репортаж в 1993 году вновь поднял проблему текстов ужасов для детей. Молодым людям показывали, как они читают вслух жестокие отрывки из романов, но репортаж был легким по тону, что-то вроде пуха в конце выпусков новостей (CNN Headline News, 15 августа 1993). Можно только представить, что произошло бы, если бы эротическая литература была написана для этих эпох.
29. Кавелти 1976: 48. Кэмпбелл (1992:68) вспоминал, что в детстве он “страдал от бессонных ночей после просмотра "Белоснежки"" Актер ужасов Роберт Энглунд (Фредди Крюгер) увидел "Дурное семя", когда ему было девять, он сказал о героине Пэтти Маккормак: “В течение многих лет я боялся девочек с косичками” (Entertainment Weekly, 21 октября 1994 г., стр. 82). В 1930-е годы существовало значительное беспокойство по поводу реального или воображаемого воздействия фильмов на детей; ряд педагогов рассказывали о учениках, которых, по-видимому, беспокоили (или возбуждали) фильмы ужасов и криминальные фильмы, жанр которых тогда находился в полном развитии (см. Skal 1993: 202ff).
30. Смотрите Блэк и Парфри 1988, Тумер 1988 и Блэк 1994 о событиях, произошедших с 1970-х по 1980-е годы.
ГЛАВА 10
1. Конец невинности” (5 мая 1993 г.) по делу Келли Майклс.
2. Геи и лесбиянки никоим образом не были едины в поддержке критических исследований секса между взрослыми и молодежью. Гей-СМИ могли бы предлагать такие же небрежные репортажи, как и их коллеги-натуралы. Подробное письмо Тома Ривза (1982) документирует ложные истории, распространяемые Boston Globe и радиостанциями WEEI и WRKO, истории, некритично принятые новостями гей-сообщества. Смотри Бирчелл, 1985, в канадском “Отчете Бэджли” за 1984 год; В сексуальных преступлениях против детей утверждалось, что 50% канадских женщин пережили “нежелательные половые акты”. Учитывая расширительное определение, цифра может быть слишком низкой, но она использовалась политически для обозначения секса между молодежью и взрослыми. В более поздней основной статье о канадской истерии (Amiel, 1988) отмечалось влияние британских сил на Канаду, но ничего не говорилось об американских источниках.
3. Письмо Крэнстона, 21 сентября 1983 г.; ответ гражданина, 4 октября 1983 г. Письмо от Дулиттла Джонсу, 10 августа 1989 г.; письмо Джонса Дулиттлу, 18 августа 1989 г.; Jones press релиз, 18 августа 1989 г. Дулиттл, как Крэнстон и многие другие, продолжали утверждать, что “индустрия детской порнографии” быстро расширяется и что половина всех коммерческих секс-журналов содержит детскую порнографию. В 1991 году Крэнстон получил мягкий выговор от Сената США за то, что взял 850 000 долларов у банкира и борца с эротикой Чарльза Э. Китинга-младшего, чтобы ходатайствовать от имени Китинга в его сберегательных и кредитных махинациях.
4. Эта идея, по сути, была разработана в рамках новых наук о человеческом поведении в 19 веке, опираясь на опасения 18-го века по поводу жестоких толп, свергающих королевскую власть и разрушающих бизнес, и опасения маскулинистов 19-го века по поводу гендерной роли. Это продукт структурных/функционалистских школ мысли, которые видят причинно-следственные связи между социальным напряжением и массовыми движениями. "Истерия” рассматривает коллективное поведение как иррациональное, ненормальное или психопатическое, точно так же, как Виктор (1993) ошибочно использовал слово “причудливый” несколько десятков раз для описания сатанистского страха. Истерия, которая является правильным описанием, была скорее слиянием традиционных элементов американской профессиональной, политической и массовой культурой. Институты и люди, которых они выбирают в качестве членов, ятрогенны, и это будет продолжаться.
5. Эльштайн 1985:23. Редакционное вступление к статье Барри (1992) начинается с “типично британской истерии по поводу реалий сексуального насилия над детьми”. На самом деле истерия в Соединенных Штатах была чрезвычайно схожей с Великобританией, Канадой и Австралией. Первоначально Европа оставалась более рациональной, хотя позже на континенте произошло несколько серьезных нападений на критиков жестокого обращения, педофилов и молодежь.
6. Критики часто боялись высказываться только потому, что их могли заклеймили как растлителей малолетних (Elshtain 1985). Эберлес сообщает, что эксперты, которых попросили дать показания в пользу защиты на процессе Макмартина, подвергались давлению и запугиванию со стороны окружной прокуратуры Лос-Анджелеса, а также негативному давлению со стороны их собственных коллег (1993:307, 376, 404), См. также примечание 42.
7. TRB 1985:42, игнорируя семь лет критики. Буллоу сказал: “Мы как общество не пришли к согласию относительно того, что именно представляет собой сексуальное насилие” (1985:52); Pride (1986) также с другой точки зрения указал на многие проблемы с определениями того времени.
8. Офше и Уоттерс 1994: 294, аналогично замечаниям, сделанным Денсен-Гербер и Эллен Басс, которых они цитируют из интервью 1992 года, которое они провели с ней. В нем Басс предложила несколько объяснений подавления и выздоровления и назвала свои собственные взгляды “здравым смыслом”. Позже она прокомментировала: "Если бы мы ждали, пока научные знания догонят нас, мы могли бы просто забыть обо всем этом” (стр. 29f).
9. Одно частичное исключение сделано Натаном и Снедекером (1995), но в конечном счете они возвращаются к переформулировке обыденное и неверное предположение об универсальной патологической природе отношений.
10. Кратковременное разоблачение похищения родителями в начале 1980-х годов поставило под сомнение мнение о том, что большинство детей были похищены незнакомцами и педофилами. Абрахмс (1983, 1985) отметил, что большинство похитителей в стране были родителями, участвовавшими в спорах об опеке, факт, задокументированный с середины 1970-х годов. Статья Уитмена (1985) подняла три вопроса, которые игнорировались и будет игнорироваться остальными популярными средствами массовой информации: большинство пропавших детей были беглецами (и вскоре вернулись домой, добровольно или нет) спасаясь от жестокого обращения и/или невыносимой обстановки, что похищающие родителей часто представляли физическую и эмоциональную опасность для их собственных детей и что истерия отчасти усиливалась из-за распространения фальшивых групп по поиску детей и схем сбора средств, корыстно заинтересованных в преувеличенных изображениях злодейства и страданий.
11. Цитируемые, плюс Уитмен, 1985; Фриц и Алтейд, 1987; Будянский, 1988 - Джентри, 1988-Бест, 1990.
12. Ландерс 1990, Векслер дополнил эти жалобы письмом (Landers 1991e).
13. Натан, 1988а. Был ответ Лизы Маншел с дополнительными письмами к статье Маншела. В 1990 году Маншел опубликовал отчет о книге "Доверчивый", но другие взгляды на дело подтверждают критический анализ Натан.
14. Донеган 1993b. В статье, как и во многих других, говорится в основном о сексуальном насилии, чтобы поддержать интерес читателя, но приводятся цифры только для более общего “жестокого обращения с детьми”. В любом случае, по словам автора статьи по собственному признанию, отчеты о каждом из них по-прежнему содержат серьезные количественные и качественные недостатки. В конце 1995 года таблоидное телешоу (20/20, “Правда в суде”, 8 сентября 1995 г.) признало, что из 30 дел о жестоком обращении в детских садах, возбужденных в 1980-х годах, две трети были прекращены, но тщательного исследования проведено не было. Прокуроры по-прежнему хвастались своими высокими показателями вынесения обвинительных приговоров, исходя из предположения, что все подобные сексуальные контакты являются жестоким обращением и все обвинения верны, как если бы это было доказательством их добрых намерений и легитимность законов. Таким образом, репортеры и прокуроры могут затем заявить, как это сделала Линди Сордини, начальник отдела по борьбе с насилием в семье округа Бексар (Техас), что “редко приходится иметь дело со случаями ложных или злонамеренно ложных обвинений” (Donegan 1993b).
15. На первой странице (24 июля 1993 года, Fox) Басс сказал, что по состоянию на июль 1993 года было продано более 650 000 экземпляров книги. Когда ее спросили, чувствует ли она какую-либо ответственность за то, что люди используют ее книгу для выдвижения ложных обвинений, Басс уверенно ответила, что большинство родителей, заявляющих о своей невиновности, являются действительно виновными. Семья Соуза также была в центре внимания сегмента шоу Ларри Кинга в прямом эфире (CNN, 7 мая 1993). Рабинович (1993) назвал книгу “современной Библией для невротиков”, но это отвлекает внимание от политических и исторических сил, которые контекстуализируют книгу.
16. “Невиновность утрачена: вердикт”, Frontline, Система общественного вещания; часть 1: 20 июля 1993 г., часть 2: 21 июля 1993 г. Автор сценария, продюсер и режиссер Офрабикел.
17. Снятый для телевидения фильм о процессах над Макмартином вышел в эфир в середине 1995 года (Обвинительный акт: Суд над Макмартином). Несмотря на высокую критику, превосходные производственные показатели фильма отвлекли внимание от его мелодраматической стилизации (в саундтреке используются скрипки из фильмов категории "Б" и голоса хора для усиления саспенса). Местные средства массовой информации были показаны в их обычном неистовстве, но в целом отделались легким испугом. Фильм поддержал демонизацию педофилов и занял общую позицию, согласно которой система исправится, когда в конце концов восторжествуют правда и справедливость для всех.
18. Холлингсворт 1986:55f Повествование, по-видимому, основано на видеозаписи интервью. Цитаты даются в форме диалога, но также приводятся внутренние мысли и эмоции мальчика, чтобы усилить образ спрашивающего о мягком вопрошании и о ребенке как о доверчивом, “бесхитростном” (стр. 53) и “херувиме” (стр. 68).
19. Картрайт, 1994. Это старая профессиональная традиция. В рецензии на знаменитую книгу Вертхэма “Соблазнение невинного” Денни (1954:18) отметил, что собственные интервью Вертхэма ", по-видимому, фиксируют неловкое зрелище детей, [которые] говорят своему интервьюеру то, что, по их предположениям, он хотел услышать".
20. Статья Хопкинса также содержала предложение Алана Леви и Артура Грина, обоих из Нью-Йорка Пресвитерианской больницы Йорка, что женщины, подвергшиеся насилию в детстве, часто выдвигают ложные обвинения в жестоком обращении со своими собственными детьми, еще один поворот формулы "подвергшиеся насилию становятся насильниками".
21. Лэш 1978, Гросс 1978. Эта критика конца 1970-х годов сама по себе была продолжением неудовлетворенности старыми психологическими подходами (Rieff 1966, Jacoby 1975). Смотрите Уилкинсон 1983 для контекста.
22. Reiff 1991. Бойл (1994:107) процитировал новостную статью Малкольма Риттера от 23 января 1993 года (“Исследования показывают широкие различия в реакции ребенка на сексуальное насилие”). См. Bower 1993a, 1993b и Anonymous 1994e.
23. Kitzinger 1988. Запутанная статья разрывается между пониманием истерии и опорой на шаблонные предположения о сексе между взрослыми и молодежью. Ее взгляд на британские популярные СМИ указывает на ту же форму и содержание, что и американские образы; см. также Дженкинс 1992. Несколько лет назад Рассел (1950) заметил, что совершенно невинный ребенок, несмотря на приписывание ему божественных связей, является фигурой, которая обязательно лишена какой-либо реальной власти. Наделить такого ребенка эффективной и подлинной властью было бы осквернением чистоты и добродетели. Начиная с 1940-х годов, и особенно с ростом детских движений в конце 1960-х, общество столкнулось с тем, что многие взрослые хотели дать детям и молодежи больше власти, и (что еще более пугающе) молодежь просто забирала больше полномочий. Рассел видел, что протекционизм - единственный открытый для многих взрослых способ сохранить собственное чувство места и цели, определяемые как превосходящие и заслуженные.
24. Райт 1994: 24f. Ранее она обвиняла мужчину в попытке изнасилования (обвинения не предъявлены; мужчина положил руку ей на колено) и обвинила соседку в сексуальном насилии (обвинения не предъявлены; ее показания слишком разнятся). Оба ее обвинения возникли в контексте фундаменталистских возрождений, которые поощряли эмоционально заряженные исповеди и религиозное возрождение.
25. Двоих показали по телевидению. На одном была изображена нахмурившаяся девушка; терапевт сказал, что это печаль, вызванная жестоким обращением. Другая семейная фотография, на которой молодая девушка в трусиках залезает в ванну, была названа терапевтом “детской порнографией”.
26. Тейлор 1994; 20/20, “Моя семья, простите меня” (22 июля 1994). Телевизионная мелодрама привнесла немного истории и нагнетала напряжение (“Простят ли они ее?”) до кульминации слезливых воссоединений.
27. Голдштейн 1992, Макхью 1992, Аноним 1993f, Лофтус и Кетчэм 1994; Голдштейн и Farmer (1993) собрали ряд разоблачающих и дискредитирующих отчетов о производстве “восстановленных воспоминаний”. В 1990-х годах появились люди, называющие себя “Ретракторами”, те, кто выдвигал обвинения против других в жестоком обращении, но затем отказывался от них, обычно утверждая, что им внушили или по принуждению терапевтов, прокуроров или полиции (информационный бюллетень. Ретрактор: выжившие в восстановленной памяти) был опубликован в 1992-1994 годах).
28. Два шоу Frontline (PBS) попытались задокументировать противоречие (часть I: “Охота” [4 апреля 1995 г.] и часть II: “Разделенный дом” [11 апреля 1995 г.], автор сценария, продюсер и режиссер Офра Бикел). Будучи умеренно успешными, как и другие журналистские начинания, шоу избегали фундаментальных проблем и тревожно показывали людей в эмоциональных муках терапии. Позволяя таким образом использовать своих клиентов может представлять собой неэтичную практику терапевтов. “Восстановленные воспоминания”, как и заявления о сатанизме, являются одними из самых легких мишеней для критики. Споры по поводу “восстановленных воспоминаний” возникали и в других областях, особенно среди тех, кто утверждал, что был похищен инопланетянами; см. Goertzel 1994. Идея сохраняет свою привлекательность; Боумен (1997) предполагает, что “восстановленные воспоминания” могут исходить из прошлых жизней детей.
29. Трой Стоукс, известный техасский гей-активист и один из немногих ярых критиков истерии сексуального насилия над детьми на протяжении 1980-х годов, часто упоминал “Церковь клиентологии”, когда говоря о группах населения, ориентированных на профессиональную карьеру, и о том, как обращались с такими клиентами. Хьюз (1993) видел, что большая часть религиозного этоса виктимности коренится в пуританских традициях, точка зрения, принятая здесь, хотя я подчеркиваю популярные, профессиональные и политические механизмы, которые поддерживают такие традиции традиционными. В 1960-х годах ряд мужчин и женщин ушли из духовенства, чтобы стать светскими психологами, но к началу 1980-х тенденция изменилась. Наука стала привлекательной для верующих, проявлявших различную степень активности (креационисты называли себя учеными; другие пришли в науку, чтобы продемонстрировать божественные намерения, стоящие за материальными явлениями). Психология и социальная работа, в частности, привлекали верующих. Эти области давали возможность осуществлять личное служение, и хотя социальные науки и науки о поведении всегда имели в своей основе некоторые либеральные религиозные предписания, с середины 1970-х годов более консервативные и фундаменталистские концепции начали формировать метод и теорию. Далее, произошла переосмысление религии с психопатологической на “психодуховную” направленность, и терапия приобрела “духовную валидацию” как одна из её задач. Движения привлекли незначительное внимание общественности, обычно исторически неверное (Anonymous 1994d; см. также Goleman 1991). Популярные работы М. Скотта Пека (например, 1983), который был “рожден свыше” в 1980 году, помогли внедрить концепцию зла в терапевтическую и политическую практику. Освящать ребенка и демонизировать педофила с помощью таких предположений стало намного легче после того, как они стали частью науки.
30. Anonymous 1993d. В этих разоблачениях не была отмечена долгая институциональная история принуждение и жестокое обращение со стороны психиатрии. Активисту, который помог заложить основу для истерии сексуального насилия, пришлось подыграть, опубликовав разоблачение жестокого обращения с детьми в психиатрической клинике, которое лишь перекликалось с критикой 1960-х и начала 1970-х годов (Armstrong 1978, 1993). В Техасе расследование 1991 года о “охоте за пациентами” со стороны коммерческих психиатрических учреждений привело к национальному расследованию, в результате которого к 1995 году было закрыто почти 40 отделений в Техасе. Charter Medical Corporation осталась и, не признавая вины, оплатила расходы в размере 1,5 миллиона долларов, поклялась придерживаться “минимальных стандартов приема и оценки”, а также чтобы обеспечить бесплатный уход за подростками из Техаса. Расследование было основано на жалобах, касающихся подростка, которого охранники забрали из его дома без постановления суда и с разрешения его бабушки и дедушки. Психиатр, задержавший юношу, не был обвинен в похищении или жестоком обращении с детьми, но был осужден за финансовые правонарушения, приговорен к пяти месяцам в реабилитационном центре и трем годам “освобождения под надзором”. Доктор Тимоти Боулан надеялся, что его преступление “не должно удерживать врачей... от настойчивости в районы предполагаемого жестокого обращения с детьми" (Прайс, 1994).
31. Мазур и Пекор, 1985, Линелл Смит, 1993. Последняя статья начиналась с Глории Голдфаден, основательницы Мэрилендской организации "Люди против жестокого обращения с детьми, Инк.", отделения Национального комитета по Предотвращение жестокого обращения с детьми, возмущенно заявив, что она почти никогда не слышала о каком-либо беспокойстве по поводу прикосновений к детям, и воскликнув: “Почему мы вообще говорим об этом, когда жестокое обращение с детьми процветает?” В колонке без подписи к статье Смита призывали людей “Следовать своим инстинктам с детьми, говорит эксперт, а в другом (“СМИ подверглись критике за ”чрезмерный" подход к теме") приводились замечания нескольких медиакритиков, но они подстраховались и избежали своей ответственности, заключив слово "чрезмерный" в кавычки.
32. Многие читатели негативно отреагировали на ее совет, но Ландерс настояла на своем, сказав: “Я бы не дала такого совета 10 лет назад, но времена изменились”. Чтобы доказать свою точку зрения, она предоставила письмо-признание, предположительно, от мужчины, заключенного в тюрьму за сексуальные преступления, в котором он утверждал, что дружелюбные мальчики “будут подвергаться сексуальному растлению много раз до своего...12-летнего возраста” (Ландерс, 1989).
33. Холлингсворт 1986:135. Ее единственная жалоба на несправедливость здесь заключается в том, что она считает, что это еще одна форма изнасилования, через которую пришлось пройти детям, и подразумевает, что детям нужно просто верить, а тех, кого они называют, автоматически арестовывать и сажать в тюрьму.
34. Макхью 1992: 505, 506. Доказательства того, что физические и психологические “болезни” могут исходить из культурных источников, предоставлялись социальной наукой на протяжении десятилетий. Профессиональная горячность в обвинениях в злоупотреблениях в значительной степени проистекает из обширных сомнений, возникших с конца 1950-х по середину 1970-х годов основывалось на экспертной компетентности и авторитете, а также на приоритизации субъективных взглядов. Профессионалы оказались в неловком положении, желая свести к минимуму субъективистские вызовы авторитету, одновременно пытаясь сохранить ценность личных точек зрения как средства профессиональной оценки и получения дохода.
35. Векслер 1990: 28, 1985. Pride (1986) отражал консервативный взгляд на это, а Эбкрик и Эберле придерживались либерального подхода (1986, 1993). В информационных бюллетенях VOCAL говорится о глубоких провалах правоохранительных органов и социальных служб и иррациональной подлости отдельных лиц, ревностно следящих за судебным преследованием. Комментарий Векслера об уничтожении вещей ради их спасения был высказан многими наблюдателями. Фраза вошла в американский лексикон как пренебрежительное отношение к экспертам, которые заявляют о своей компетентности и доброй воле и требуют верности и повиновения их диктату, но чье поведение приводит только к уничтожению всех вовлеченных. Оправдывая уничтожение Южновьетнамского Бен-Тре-Сити американскими войсками во время Тетского наступления 1968 года, неизвестный Майор сказал, что “возникла необходимость разрушить город, чтобы спасти его” (Вайнтрауб, 1968). Это было замечательное выражение политического и военного менталитета того времени.
36. Натан, 1988b; 1987, 1990a; Каноф позже стал помощником прокурора США. Эберле и Eberle (1993) также ссылались на высказывания нескольких других лиц, которые хотели провести расследование и привлечь к ответственности прокуроров.
37. Рабинович 1990;60f см. Эберле и Эберле 1993 о возможных судебных нарушениях в деле Макмартина. Опыт неправомерного судебного преследования и тюремного заключения не ограничивался случаями жестокого обращения; по крайней мере, одна популярная книга была опубликована, чтобы утешить осужденных в период безумного стремления сажать людей в тюрьму (Янт, 1991).
38. Барри 1992:22. Хикс (1991a) предоставляет много документации о подобной цикличности самоутверждающейся и самореализующейся власти среди полиции, терапевтов, духовенства и прессы. Важной целью цикличности является поддержание чистоты дискурса, что достигается с помощью нескольких фильтров, одним из которых является подавление противоречащих данных. Прокурор США Рут Норденбрук пыталась остановить публикацию статьи Стэнли 1989 года (Стэнли, личное общение. 6 мая 1990 года). Журнал сексуальных исследований отклонил статью о позитивном сексе между взрослыми и молодежью после того, как один рецензент сказал, что секс с “несовершеннолетними” был "неправильным" (статья была опубликована в другом месте). Изъятые Пэтом Лафоллеттом листы с кодировкой для контент-анализа были описаны детективом из Лос-Анджелеса Гарри Лайоном как “бланки заказов на детскую порнографию”, обычная полицейская подделка, сделанная по политическим причинам или из-за некомпетентности. На этот процесс, общий для многих идеологических состязаний, ранее указывал Партон в "панике по поводу жестокого обращения с детьми" (1985:89), который отметил, что “культура контроля” предлагает (обычно ограниченное) определение проблем и терминов, которые принимаются и воспроизводятся средствами массовой информации. Воспроизведение на носителях придает традиционным изображениям к взглядам культуры контроля. Эти образы и сценарии теперь кажутся объективной и независимой реальностью. Затем эксперты используют средства массовой информации в качестве разрешения и оправдания; профессиональная культура предлагает аналогичные удобства, цитируя друг друга при построении своей карьеры. Также смоьли примечание 50.
39. Рабинович 1990:56. Весь смысл в том, что их воображение поощряется.
40. Рабинович 1990:58. На прямой наводящий вопрос прокурора Сары Макардл мальчик сместился, чтобы согласиться с ее интерпретацией, и сказал, что имел в виду, что “надеялся”, что все это ложь (стр. 61). Эберле и Eberle также задокументировали аналогичные методы допроса в деле Макфарлейна о Макмартине (1993: 153, 187-199, 201f, 365) и ее помощницы Сандры Кребс (стр. 373, 388). Параллельным скандалом в среде помогающих профессий стало разоблачение “облегченного общения” как средства достучаться до детей, страдающих аутизмом.. Приверженцы метода (с помощью которого ведущий подводит руки молодых людей с аутизмом к клавиатурам для ввода сообщений) сформировали чрезвычайно сплоченные организации с приверженностью культу, рассматривающие себя как еще одну форму спасителей детей 1980-х годов. Этот метод использовался для дачи показаний в суде о том, что дети “сообщали” о том, что они подверглись сексуальному насилию, как правило, со стороны своих родителей. Независимое исследование, наконец, показало, что именно фасилитатор формирует сообщения.
41. Hicks 1991a и Victor 1993 рассматривают средства массовой информации как фундаментальную причину истерии, хотя они признают критические голоса, когда они появляются. Социолог Виктор, однако, считал, что “моральные утверждения исходят не из средств массовой информации” (1993:210). Даже для ученого удивительно видеть такое незнание обширных исследований журналистских практик, в которых репортеры открыто берут на себя роль активистов, намеренно выбирают одни источники и замалчивают другие, а также фабрикуют заявления и события, особенно в период когла он занимался исследованиями. Для более общего представления смотрите Valenstein 1986.
42. Rabinowitz 1990:53, Каминер упоминал о связанной реакции. Когда она выступила с критикой “движения за восстановление”, на нее напали с “евангельским пылом” (1992:3), Эберле и Эберле (1993) на протяжении всей своей книги сообщают о случаях неверия, бегства или ненависти, когда они ставили под сомнение уверенность людей в виновности обвиняемых по делу Макмартина. Когда Таврис критиковала “машину, пережившую инцест” (1993), она чувствовала, “что поляризация среди профессионалов сейчас настолько сильна, что исследователей быстро клеймят как находящихся на той или иной стороне”, и что "вы чувствуете, что должны извиниться за любую поддержку, которую вы, возможно, оказываете растлителям, насильникам, педофилы и другим женоненавистникам.” Помимо простодушной гомогенизации названных ею групп, она писала: прошло почти пятнадцать лет после начала истерии; ее запоздалая, легкая и очевидная критика прозвучала в гораздо более безопасное время. Тем не менее, в ответ Басс и Дэвис ответили, что такая “негативная реакция” была вызвана только “необходимостью дистанцироваться от человеческой жестокости”, пропустив критику несправедливости и фанатизма; сделав именно то, что Таврис сказал о реакции, Сью Блум причислила Тавриса к этим “растлителям, насильникам, педофилам", и другие женоненавистники” (письма, книжное обозрение "Нью-Йорк Таймс", 14 февраля 1993 г. VII:-3, 27). Преподаватель журналистики Джеральд Хэннон был отстранен от работы в политехническом университете Райерсона Университета (Торонто) за его критический взгляд на поведение СМИ и полиции в отношении секса между взрослыми и молодежью, комментируя: “Я не думаю, что такие отношения автоматически являются плохими” (“Профессор поддерживает секс между взрослыми и детьми”, - гласил заголовок Toronto Sun от 15 ноября 1995 года), Натан сказала, что ее критические репортажи привели к ложные обвинения в жестоком обращении с детьми против нее (Натан и Снедекер 1991: ix). Мой собственный опыт был похожим: реакция профессионалов обычно была безжалостной и мстительной, но, с другой стороны, в них не было угроз убийством, обещанных мне гражданами, хотя один аспирант, дрожащий в ярости сказал, что хочет “применить насилие” по отношению ко мне.
43. Миллер 1992. Смотрите Groner 1991 для описания случая с существенными данными, которые были доступны сценаристам и продюсерам, но проигнорированы. Талер (1994) был обеспокоен тем, что в эфир вышли два телевизионных фильма о деле Эми Фишер с диаметрально противоположными точками зрения, “однако, очевидно, что два крупных телеканала proceeded...as если правда, вполне возможно, не на их стороне, не имеет значения”. Профессор Талер, похоже, не осознает, что это не относится к делу; проблема этики Миллера надуманна только для связей с общественностью.
44. Другой стороной этого в то время была популярность исторической фантастики, в которой реальные персонажи и события реконструировались в вымышленных контекстах.
45. Катутани 1980 и Ларднер 1984 подняли этот вопрос на ранней стадии истерии, но им было уделено мало внимания или вообще не уделялось никакого.
46. Вуден 1985b; 60. Он пытался озвкчить проблему пропавших детей, хотя и преуменьшил роль похищения родителей. Его заявление кажется ироничным в свете его собственной продолжающейся программы “Заманивания детей”, но большая часть этой ранней критики была направлена на либеральные и светские методологии.
47. Карлсон 1985, симпатии к выбору способствуют жестокому обращению с детьми, говорит он, ссылаясь на статью Нея против абортов (1979; также Pride 1986: 34 и стр. 236f, примечание 7).
48. Гратто и Гибсон в 1985 году отметили отсутствие обоснования деятельности Хюбнера, но потребовалось еще два года, чтобы новость попала на рынки Техаса; Хендрикс, 1987.
49. Нобиле 1990а, Бейкер 1990, Сеннотт 1992. Некоторая критика была высказана ранее, например, в отношении бесхозяйственности в финансовой сфере, но основные вопросы не были рассмотрены. "Макинтош 1983" и "Гротхаус 1985" пропустили обычную шумиху в пресс-релизах, но отметили комментарии местных чиновников о том, что представление Риттером молодежной проституции было преувеличено и что "Ковенант Хаус" фактически усугубил ситуацию с преступностью в этом районе.
50. Уоллер 1991, Идея о том, что существовала “широко распространенная” поддержка сексуальных отношений между взрослыми и молодежью, не подтверждается никакими доказательствами. Идея о том, что существовало широкое признание сексуальных отношений между взрослыми и молодежью. Педофилия была основана на возросшей популярности теорий заговора в целом в 1980-х годах и из-за тенденции реакционной мысли обратиться в этом направлении за объяснением. Интересным результатом возросшей критики стало появление перевернутых теорий заговора, то есть вместо того, чтобы жестокое обращение с детьми было продуктом международного заговора педофилов, сама истерия стала заговором. Пол и Ширли Эберле попадаются на эту удочку в своей книге о процессе Макмартина. Один друг обвиняемых полагал, что дети и их истории были намеренно подброшены в школу, где будут учиться Баки. Были подозрения в сокрытии информации федеральным правительством, которое открыто финансировалось, тайно оказывало давление с целью вынесения обвинительных приговоров (1993: 178); “Макмартин был лишь частью гораздо более масштабной, чрезвычайно зловещей программы”, - сказали Эберли (стр. 341). Они действительно предоставили некоторые доказательства, которые могли бы быть использованы с этой точки зрения, включая три загадочные смерти участников, чьи показания нанесли бы ущерб обвинению (стр. 119f). Также в качестве доказательств заговора используются обширные связи между юристами, специалистами в области психического здоровья и медиками; “обширный консорциум охотников за растлением” и “общенациональная сеть коррумпированных прокуроров, врачей, психологов, социальных работников, сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих и представителей средств массовой информации...”, - говорится в Eberles (стр. 179). Существует также “федеральная иерархия растления, по-видимому, организованная Национальной ассоциацией окружных прокуроров” (см. Хикс 1991а, Виктор 1993, Натан и Снедекер 1995 о профессиональных сетях). Эберлес сказал, что многие активные участники считают, что истерия сексуального насилия над детьми является “лишь небольшим компонентом более масштабной программы по разделению детей от их родителей и индоктринировать их”, чтобы установить правительство в качестве власти над детьми, а не над семьей (стр. 348, 350), или “программа принуждения к бессмысленному конформизму и слепому повиновению” (стр. 409). То же самое и с однородностью освещения событий в СМИ. Эберли предположили, что “более вероятно, что они просто выполняли приказы. Но от чьего имени отдавались приказы? (стр. 354). Создание сетей и взаимное влияние идей и техник сами по себе достаточно существенны и реальны, чтобы подтолкнуть человека к конспирологическим драмам, но я хочу сказать, что обычный бизнес как обычно структура повседневной деятельности и ценностей, институционализированная в профессиональной, политической и массовой культурах, ответственна за безумие. Действительно, могут существовать заговоры с целью скрытого и/или незаконного укрепления авторитета этой идеологии (история полна таких свидетельств, особенно в том, что касается правительств, и по мере дальнейшего расследования истерии может быть раскрыто больше), но тайные заговоры не нужны, чтобы объяснить определенные периоды культурной дикости.
51. The Nation перепечатала часть обращения CDTL о сборе средств в 1986 году, в котором Китинг приглашает членов церкви приложить руки к своей членской карточке и “почувствовать связь со мной и с успехами сотен тысяч порядочных, богобоязненных людей по всей стране, которые стоят в непреклонном строю против сил абсолютного зла” (том 249, #20, 11 декабря 1989 г., стр. 708).
52. Кемпер 1990. В статье есть несколько намеков на грубые манеры Беттельхайма в общении, но они оправданы, и нет упоминания о физическом насилии.
53. Письма обществу, том 28, №5, 1991, стр. 6-9; письма журналу "Комментарии", том 91, #2 (Февраль), стр. 6,8-12, 1990.
54. Уотерс, 1986. “Будучи непредубежденным”, он пообедал с обвиняемыми, но использовал их и проблему только для того, чтобы продемонстрировать свою роль превозносителя мусора. Он упомянул, что пытался понять, через что они проходят, посетив показ фильма "Заботливые мишки" в своих обычных солнцезащитных очках; он сообщает о подозрительных взглядах и комментариях персонала кинотеатра, о матерях, уводящих от него своих детей. Смотрите также “Как не снимать кино” в том же томе, где он комментирует, что озадачен сексом молодежи и взрослых, “поскольку все знают, что единственная причина заниматься сексом - это сигареты, после этого вкус становится лучше, [так что] не чувствуют ли эти растлители себя глупо, находясь там голыми, когда шестилетний ребенок наносит свой первый удар ”Лаки Страйк"?" (стр. 124-133).
55. 24 января 1993. В более позднем выпуске “Запределья” (13 марта 1994) Опус обвиняет Milquetoast в том, что тот вылил ему в нос средство для чистки канализации, но роуч отвечает: "Я чувствую себя оскорбленным из-за того, что ты злоупотребляешь своей властью, чтобы завидовать мне за мое НАСИЛИЕ!" Опус признается, что он “жестокий человек”. Milquetoast готовит очередную дозу средства для очистки стоков.
56. 21 января 1993. В более поздней статье (7 апреля 1995) Кэлвин говорит, что плохая оценка подрывает его самооценку, но учитель советует ему работать усерднее. Кэлвин парирует: “Ваше отрицание того, что я жертва, снижает мою самооценку!”
57. Funny Times, том 8, #4 (апрель), 1993, стр. 6.
58. Карточки для обмена пропавшими детьми появились как пародия в декабрьском выпуске бюллетеня NAMBLA за 1986 год (том 7, №10, стр. 11) в то время, когда сатира была менее безопасной и ценилась в меньшей степени. Торговые карточки, традиционно ограничивавшиеся спортивными фигурами, претерпели значительное тематическое расширение с конца 1980-х, углубляясь в такие области, как автомобили, политические деятели и звезды эротики. Открытки с изображением преступников, особенно серийных убийц, подверглись серьезной критике, опасаясь за психическое здоровье детей. Законодательные органы Нью-Йорка и Мэриленда хотели запретить любое изображение насилия в отношении лиц младше 18; некоторые сторонники признали, что речь идет о свободе слова, “но не для детей”, они настаивали, продолжая использовать детей как способ обойти проблемные конституционные вопросы (Национальная общественность Радио, 24 апреля 1992 года).
59. Двумя другими “волнами” для Гарднера были суды над ведьмами в Новой Англии конца 17-го века и антикоммунистические чистки 1950-х годов. Для многих концепция охоты на ведьм включала это сравнение с периодом Маккартли. С противоположной стороны. Профессор Рашке сказал об эпидемии ритуального сексуального насилия над детьми, которая, по его мнению, имела место: “Америка по-настоящему не знала зла до сегодняшнего дня" (1992: 403). Критики истерии часто делали комментарии подобного рода, демонстрируя обычное для американцев отсутствие исторического сознания. Не упоминаются длительные кампании геноцида против коренных жителей Америки, расистский террор против небелых, антисемитизм, политические погромы против левых в 1880-х, 1920-х и 1960-х годах, массовые и профессиональные чистки от сексуальных меньшинств, особенно гомосексуалистов, гендерная тирания и так далее. Такое пренебрежение способствует взгляду на истерии как на исторически изолированные исключения, а не как на обычную институциональную и индивидуальную практику, как на повседневную американскую жизнь.
60. После того, как она провела пять лет в тюрьме. Все обвинения были окончательно сняты в декабре 1994 года.
Фильмография
A Mother's Right: The Elizabeth Morgan Story. D: Linda Otto (1992, US, ABC-TV).
Alien. D; Ridley Scott (1979, US).
American Nighmare. D: Don McBrearty (1983, US).
Amy Fisher: My Story. D: Bradford May (1992, US, NBC-TV; retitled Lethal Lolita, Amy Fisher: My Story for 1993 video release).
The Amy Fisher Story. D: Andy Tennant (1993, US, ABC-TV).
The Annihilators. D: Charles Sellier (1985, US).
The Babysitter. D: Peter Medak (1980, US, TV).
The Bachelor and the Bobbysoxer. D: Irving Reis (1947, US).
TheBadSeed. D: Mervyn LeRoy (1956, US).
The Believers. D: John Schlesinger (1987, US).
Betrayed by Innocence. D: Elliot Silverstine (1986, US, TV).
Big. D: Penny Marshall (1988, US).
Birth OfA Nation. D: D. W. Griffith (1915, US).
Bloodbath at the House of Death. D: Ray Cameron (1985, US).
The Boys ofSt. Vincent. D: John N. Smith (1994, Canada, CBC-TV).
Broken Angels. D: Richard Hefiron (1988, US, TV).
Broken Blossoms. D: D. W. Griffith (1919, US).
Brotherhood of Satan. D: Bernard Mcveety (1971, US).
Cabinet of Dr. Caligari, The. D: Robert Wiene (1919, Germany).
Captain January. D: David Butler (1936, US).
The Care Bears Movie. D; Ama Seiznick (1985, Canada).
Casualties ofLove: The Long Island Lolita Story. D: John Hertzfeld (1993, US, CBS-TV).
Child Bride. D; Harvey Revier(1942, US).
Child's Play. D; Tom Holland (1988, US).
The Clutching Hand. D: Albert Herman (1936, US; also known as The Amazing Exploits of the Clutching Hand).
The Crush. D: Alan Shapiro (1993, US).
Dead End. D: William Wyler (1937. US).
Demon Seed. D: Donald Cammell (1977, US).
Demons. D: Lamberto Bava (1985, Italy).
Devil Girl From Mars. D; David MacDonald (1954, Britain).
Dolls. D: Stuart Gordon (1987, US).
Don't Bother To Knock. D: Roy Baker (1952, US).
The Exorcist. D: William Friedkin (1973, US).
Fatal Attraction. D: Adrian Lyne (1987, US).
The Fly. D: David Cronenberg (1986, US).
Freaky Friday. D; Gary Nelson (1977, US).
The Ghost Breakers. D: George Marshall (1940, US).
The Girl. D: Arne Mattson (1986, US).
The Good Son. D: Joseph Ruben (1993, US).
The Hand That Rocks The Cradle. D: Curtis Hanson (1992, US).
Hardcore. D: Paul Schrader (1979, US).
Hellraiser. D; Clive Barker (1987, Great Britain).
Indiana Jones and the Temple of Doom. D: Stephen Spielberg (1984, US).
Indictment: The McMartin Trial. D; Mick Jackson (1995, HBO-TV).
Invasion of the Body Snatchers. D; Philip Kaufman (1978, US).
Invasion USA. D: Joseph Zito (1985, US).
Is Any Girl Safe? Anti-Vice Motion Picture Company (1916, US).
Is Your Daughter Safe? D: Louis King (1927, US).
Judgment. D: Tom Topor (1990, US, HBO-TV).
Kids. D: Larry Clark (1995, US).
Kids Don't Tell. D; Sam O'Steen (1985, US, CBS-TV).
King's Row. D: Sam Wood (1942, US).
Like Father, Like Son. D: Rod Daniel (1987, US).
The Little Girl Who Lives Down The Lane. D: Nicholas Gessner (1977, US).
Lolita. D: Stanley Kubrick (1962, Britain).
The Lover. D: Jean-Jacques Annaud (1992, France).
The Major and the Minor. D; Billy Wilder (1942, US).
Make Them Die Slowly. D; Umberto Lenzi (1985, Italy).
Masque of the Red Death. D: Roger Corman (1964, US).
Mommie Dearest. D: Frank Perry (1981, US).
The Murder of Mary Phagan. D: Billy Hale (1988, US, NBC-TV).
The Nanny. D: Seth Holt (1965, Great Britain).
Nekromantik. D: Jorg Bultgerit (1991, Germany).
Nightmare on Elm Street, A. D: Wes Craven (1984, US).
Not In My Family. D: Linda Otto (1993, US, ABC-TV).
The Omen. D; Richard Donner (1976, US).
The Paperboy. D: Douglas Jackson (1994, US).
Poison Ivy. D: Katt Shea Ruben (1992, US).
Pretty Poison. D: Noel Black (1968, US).
Prime Cut. D: Michael Richie (1972, US).
Puberty Blues. D: Bruce Beresford (1983, Australia).
Rambo: First Blood Part II. D: George Pan Cosmatos (1985, US).
Red Dawn. D: John Milius (1984, US).
Reefer Madness. D; Louis Gasnier (1938, US; aka Tell Your Children).
She Should'a Said No. D: Sherman Scott (1949, US).
Sudden Impact. D: Clint Eastwood (1983, US).
Susan Slept Here. D: Frank Tashlin (1954, US).
SwingKids. D:ThomasCarter(I992,US).
TankGirl. D; RachelTalalay (1995, US).
Terminator. The. D: James Cameron (1984, US).
They Came From Within. D: David Cronenberg (1975, Canada; aka Shivers and The Parasite Murders).
They Won't Forget. D; Mervyn LeRoy (1937, US).
The Thing From Another World. D: Christian Nyby (1951, US).
The Thing. D; John Carpenter (1982, US).
Traffic in Souls. D; George Tucker (1913, US).
Under Seige. D: Roger Young (1986, US, NBC-TV).
Vice Versa. D: Peter Ustinov (1948, Britain).
Vice Versa. D: Brian Gilbert (1988, US).
Victimsfor Victims: The Theresa Saldana Story. D: Karen Arthur (1984, US-TV).
Wee Willie Winkie. D: John Ford (1937, US).