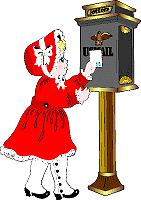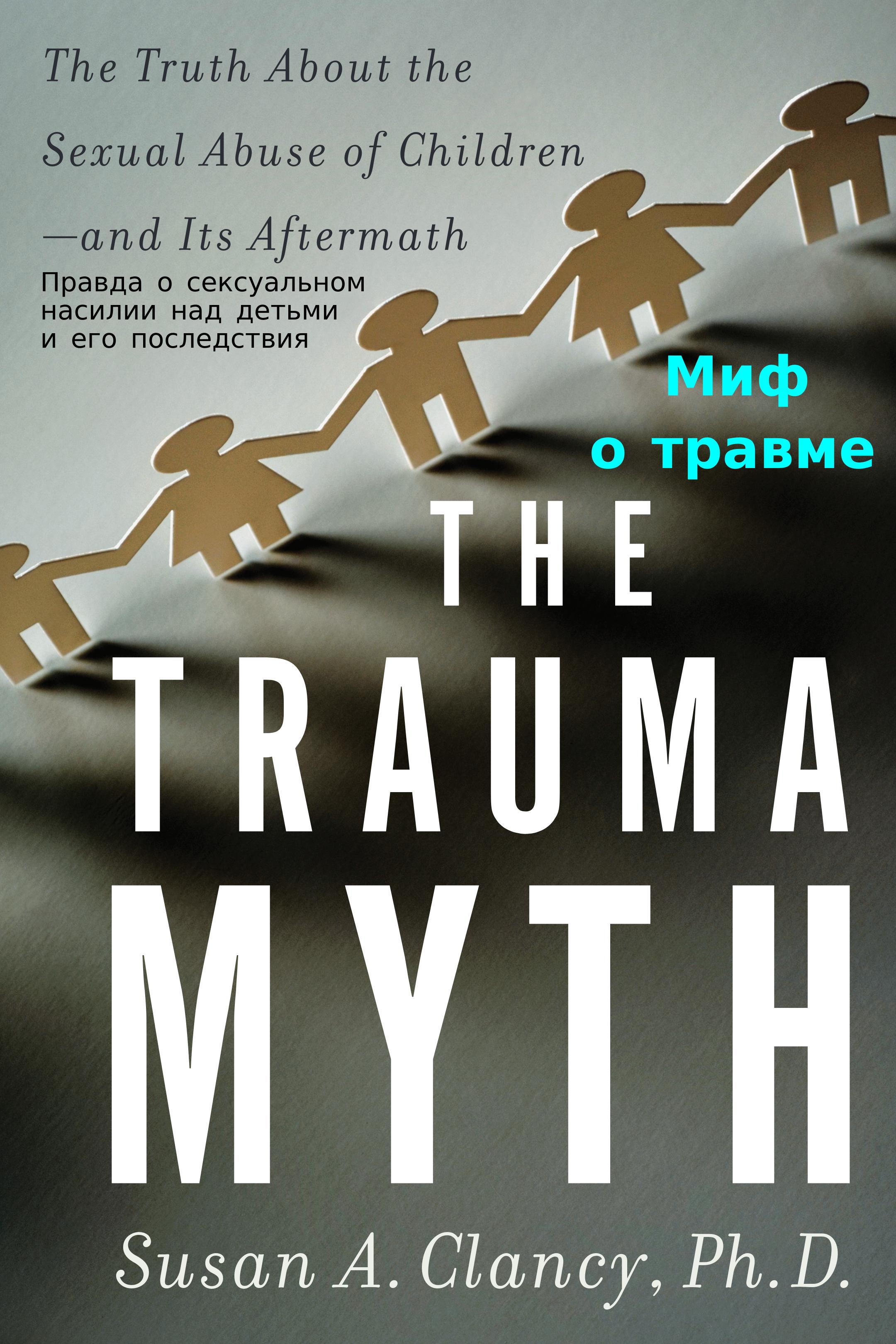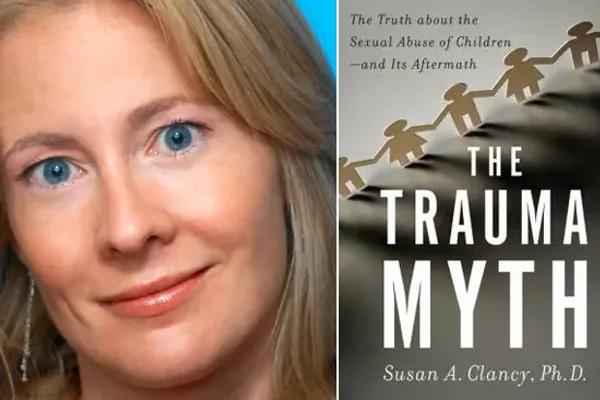КНИГА О СЕКСУАЛЬНОМ НАСИЛИИ НАД ДЕТЬМИ - Susan A. Clancy (2010)
МИФ О ТРАВМЕ - ПРАВДА О СЕКСУАЛЬНОМ НАСИЛИИ НАД ДЕТЬМИ И ПОСЛЕДСТВИЯ (Susan A. Clancy, Ph.D. 2010)
ЭТО КНИГА О СЕКСУАЛЬНОМ НАСИЛИИ НАД ДЕТЬМИ. Она основана на интервью со взрослыми, все из которых были жертвами сексуального насилия в детстве, которые участвовали в исследованиях в Гарвардском университете в период с октября 1996 года по август 2005 года. В процессе написания книги моим главным приоритетом была защита конфиденциальности жертв, о которых идет речь в этой книге. Для многих это был первый раз, когда они заговорили о сексуальных преступлениях против них. Для меня также было очень важно изобразить реальность сексуального насилия, личность людей, подвергшихся насилию, сложную межличностную динамику, они как во время жестокого обращения, так и после него, и множество способов, которыми эти преступления влияют на них на протяжении всей их жизни. В моей попытке, чтобы примирить обе цели, я решил изменить имена всех жертв, описанных в этой книге, и упустить, либо изменить какие - либо четко идентифицирующие характеристики (например, возраст, дату рождения, место жительства и конкретную профессию). Тем не менее, цитаты из этой книги взяты дословно из записанных интервью. Таким образом, я надеюсь уважать и защищать конфиденциальность предмета, в то же время точно характеризуя гуманность этих жертв и душераздирающую сложность преступлений, которые они пережили.
МИФ О ТРАВМЕ
ПРАВДА О СЕКСУАЛЬНОМ НАСИЛИИ НАД ДЕТЬМИ И ПОСЛЕДСТВИ
ОСЕНЬ 1996 ГОДА FRANK GIRARD - СОРОК ДВА ГОДА . У него есть постоянная работа налогового консультанта, двадцатилетняя жена (его школьная возлюбленная) и трое детей, чьи фотографии висят на цепочке для ключей. Раз в неделю он тренирует баскетбольную команду средней школы и по крайней мере два раза в месяц приводит свою семью в церковь. Каждый март они все отправляются в Сарасоту, штат Флорида, где Фрэнк вместе с братом вкладывает деньги в тайм-шер рядом с пляжем. Внешне у Фрэнка есть все—семья, финансовая безопасность и хорошее здоровье,—но внутри он чувствует себя иначе.
Когда Фрэнку Жирару было девять лет, что-то с ним случилось что - то плохое, что, по его мнению, повредило его психику, что сильно и навсегда изменило его отношение к самому себе, к тому, кто он есть, к его способностям и правам на успех и счастье. Более трех десятилетий он держал случившееся в секрете; он полностью скрыл это от жены, семьи, друзей и, насколько возможно, от самого себя. В основе молчания Фрэнка лежит стыд. Он подозревает, что случившееся было его виной, что он сам навлек это на себя, и как следствие “должно быть какое-то-"что-то не так” с ним—что это произошло потому, что он был в некотором роде “ненормальным".” Неудивительно, что он не хочет, чтобы кто-то знал, и меньше всего те люди, с которыми он близок и которые его любят. Несмотря на все усилия Фрэнк не говорить о том, что случилось с ним в детстве, в последнее время молчать становится все труднее. Он переживает значительные проблемы как на работе, так и в браке - проблемы, которые, по его мнению, связаны с его детским опытом,—и он подозревает, что для повторного решения этих проблем потребуется обратиться к профессиональной помощи или поддержки.
ХОЛОДНЫМ ДОЖДЛИВЫМ октябрьским ВЕЧЕРОМ Фрэнк ехал домой на метро и увидел на пустом сиденье рядом с собой номер "Бостон глоуб". Когда он лениво пробежал глазами страницы, на него выпрыгнуло объявление. В объявлении было написано: “Подвергались ли вы сексуальному насилию в детстве? Пожалуйста позвоните Сьюзен для получения дополнительной информации об исследовании памяти на факультете психологии Гарвардского университета.” Фрэнк дважды перечитал объявление. Хотя его конечным пунктом назначения должен был быть вокзал Элевайф, когда поезд с визгом остановился на Гарвард-сквер, он вышел. Через пятнадцать минут он уже стоял за дверью моего кабинета, насквозь промокший. Может быть, он участвует в повторном исследовании? Может быть, сейчас? После более чем тридцатилетнего молчания Фрэнк был готов говорить.
В ТО ВРЕМЯ Я БЫЛ АСПИРАНТОМ в Гарварде - Университет, только начинающий исследовательский проект по сексуальному насилию, о котором Фрэнк читал в газете. Что Фрэнк должен был сказать мне, что это шокирует. Начиная с девяти лет, в течение шести месяцев у него был сексуальный опыт с мужчиной средних лет, который был другом семьи Фрэнка. Это было не самое шокирующее. Исследователи в области сексуального насилия знают, что сексуальное насилие распространено— что взрослые слишком часто эксплуатируют детей в сексуальных целях. Что меня потрясло, так это то, как Фрэнк сказал, что онподвергался сексуальному насилию, когда это происходило с ним лицом к лицу. Постепенно, сопровождаясь долгими паузами, частыми вздохами, незаконченными фразами и, в конце концов, слезами, выяснилось, что, когда случались оскорбление, Фрэнк не обращал на них внимания. В детстве он любил этого человека, и ему нравилось внимание, которое этот человек оказывал ему. И иногда то, что они делали, было приятно. Иногда он давал Фрэнку бейсбольные карточки после прикосновения, и Фрэнк с нетерпением ждал их получения. Когда этот человек уехал из города, Фрэнк расстроился. Он скучал по нему, по тому времени, которое они провели вместе, внимание, которое он получил. Слушая, как Фрэнк описывает свою реакцию на жестокое обращение, я понял, почему он чувствовал стыд и вину за случившееся—почему он чувствовал себя “ненормальным". Учитывая то, чему меня учили и во что я верил в сексуальном насилии, он был прав. На протяжении более трех десятилетий сначала эксперты, а затем и наши сообщества понимали сексуальное насилие как ужасное переживание для ребенка, когда оно происходит—как нечто неизменно совершаемое против воли испуганного ребенка. Но для Фрэнка, когда происходило сексуальное насилие, все было по-другому.
Прежде чем Фрэнк вышел из моего кабинета, он задал мне вопрос. Поскольку я был исследователем в Гарварде и “изучал подобные вещи”, возможно, я мог бы помочь.
Я сказал ему, что с удовольствием попробую.
Впервые за два часа он посмотрел мне прямо в глаза. - То, что я тебе говорил ... Насколько это распространено?” Сначала я почувствовал облегчение. На этот вопрос, как мне казалось, я мог бы легко ответить. - Фрэнк, - начал я, - сексуальное насилие над детьми очень распространено. Примерно каждый пятый ребенок—”
Но Фрэнк перебил меня:
- Нет, не о сексуальном насилии, я знаю, что дети получают оскорбления—ради Бога, об этом все время пишут в газетах. ... Я спрашиваю, реагируют ли другие дети на это так же, как я ... ну, знаете, делают ли то же, что и я?”
Фрэнк имел в виду тот факт, что его детские сексуальные переживания не были насильственными—поскольку он любил этого человека и наслаждался временем, которое они проводили вместе, Фрэнк никоим образом не боролся и не сопротивлялся сексу.
Я понятия не имел, как ответить на его вопрос. В то время, основываясь на всем, что я знал о сексуальном насилии, на всем, что я изучал и чему меня учили профессионалы, я был уверен, что Фрэнк был необычной жертвой, но я не хотел этого я должен сказать ему это. Я сильно подозревала, что он не хотел этого знать.
Поэтому я решил уклониться.
- Фрэнк, область исследований сексуального насилия относительно новая. Может быть, то, что вы сделали—как вы отреагировали на это—обычное дело; в конце концов, вы были ребенком, и вы не могли полностью понять, что вы делаете, что он просит от вас, или каковы могут быть последствия. Только время и дополнительные исследования скажут, был ли ваш опыт обычным или нет.” Похоже, ответ его удовлетворил. Но я чувствовала себя ужасно из - за того, что не была с ним до конца откровенна.
ЭТО БЫЛО БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ НАЗАД . Сегодня, после бесчисленных часов изучения сексуального насилия, чтения и перечитывания исследований из области психологии, права, криминологии и социологии, встреч с представительными экспертами и бесед с жертвами сексуального насилия - мужчинами и женщинами, молодыми и старыми, богатыми и бедными—я больше не чувствую себя плохо. Как оказалось, я говорил правду. Сегодня, несмотря на свои лучшие намерения, некоторые специалисты в области сексуального насилия развили и развивают серьезные заблуждения среди широкой общественности об этом ужасном преступлении—что это такое на самом деле и как на него реагируют виктимы. В своих благонамеренных усилиях по повышению осведомленности о том, что сексуальное насилие наносит ущерб и никогда не является виной ребенка, они решили подчеркнуть характеристики и динамику насилия (такие как травма, страх, насилие и угрозы), которые не характеризуют переживания, которые испытывают большинство жертв. В результате этого неуместного акцента профессионалы игнорируют, а общественность неправильно понимает проблемы, тревоги и страхи миллионов жертв—таких людей, как Фрэнк. Вместо этого упускается из виду, сводится к минимуму и отрицается.
В современном культурном климате говорить правду о сексуальном насилии—непосредственно обращаясь к тому, что на самом деле происходит и как жертвы реагируют на это—трудно. Многие специалисты и адвокаты жертв в области сексуального насилия опасаются, что это приведет к тому, что общество обвинит жертв или поставит под сомнение вред, причиняемый сексуальным насилием. Но эти опасения беспочвенны. Сексуальное насилие, как я подробно расскажу в этой книге, никогда не является виной жертв, и оно, безусловно, наносит им ущерб, но не для тех, кого многие из нас заставили поверить.
Часто говорят, что пропаганде лучше всего помогает правда. В этом случае, не только правда о сексуальных злоупотреблениях потерпевших, свободной от оков вины, стыда, и тайны, которые связывали их, но это поможет уголовным и судебным органам лучше выявить и наказать, специалисты по психическому здоровью развивают эффективные методы лечения, и родители лучше защищают детей - будущих жертв этих мерзких и, на сегодняшний день, до безобразия распространенных преступлений.
СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ — термин, который специалисты в области психического здоровья, юриспруденции и уголовного права обычно используют для описания сексуальных переживаний между взрослыми и детьми,— удивительно распространено. По данным эпидемиологических данных, на основе случайного выбора, представленных в Соединенных Штатов, собранной и проанализированной используя передовые и сложные социальные науки, методы поиска (исследователи без видимой политческой и финансовой повестки дня), примерно один из десяти мужчин и каждая пятая женщина в США на сегодняшний день имеет сексуальный опыт (начиная от половых органов, прикосновения и орально-генитальный контакт до анального или вагинального полового акта) в детстве со взрослым (кому за восемнадцать).
Это относится примерно к сорока пяти миллионам американцев. (Потому что люди, опрошенные исследователями, могут не признавать, что подвергались насилию, многие соглашаются, что эти цифры, скорее всего, консервативны).
У нас есть много объяснений частоты этого преступления. Некоторые социологи говорят о социальном дефиците информации о сексуальном поведении. Специалисты в области психического здоровья говорят о необходимости проведения дополнительных исследований и финансирования профилактики жестокого обращения с детьми. Многие феминисты подчеркивают порабощение женщин в патриархальном обществе. Религиозные консерваторы утверждают, что сексуальное насилие является неизбежным побочным эффектом все более сексуально либерального общества, в то время как некоторые религиозные либералы утверждают, что оно происходит от сексуального подавления священников. Многие люди, с которыми я сталкивался, верили, что это происходит из - за того, что мир становится все более аморальным, из-за необратимого разрушения социальных норм. Пожилая женщина, сидевшая рядом со мной в автобусе, недавно подытожила эту перспективу: “Это поколение отправится в ад в корзине для рук.” Явным или неявным в этих объяснениях является непреложное предположение о том, что в настоящем есть что - то уникальное, что что-то специфическое в сегодняшнем времени и культуре допускает так много злоупотреблений. Но это не так. Согласно тому же массиву надежных данных, о котором я упоминал ранее, анализ показателей злоупотребления по поколенческим когортам показывает, что высокие показатели сексуального насилия были довольно постоянными в течение последнего столетия. Это было обычным делом, когда были живы наши прадеды, и если мы не сделаем что-то кардинально другое, то это будет хорошо. Это будет обычным делом, когда родятся дети наших детей.
Сексуальное насилие не только распространено, но и никто не находится в безопасности. Показатели распространенности не сильно различаются в разных социально - экономических слоях: богатые дети подвергаются насилию так же часто, как и бедные, черные дети-так же часто, как белые, выпускники колледжей-так же часто, как и старшеклассники. Чтобы сделать эти находки менее абстрактными, сходите на любую игровую площадку в любом городе Америки и выберите пятерых детей. Скорее всего, один из них уже имел сексуальный опыт со взрослым или будет иметь его до того, как достигнет половой зрелости. Этот “равный возможностям” характер сексуального насилия, во многом, это связано с тем, что подавляющее большинство насильников (около 90%)—это люди, которых мы знаем и которым доверяем: члены семьи, друзья, учителя, спортивные тренеры, вожатые лагерей, учителя фортепиано, раввины и священники. Представление о том, что большинство сексуальных насильников-странные и больные незнакомцы (“теория пугала”), совершенно неверно. Ваш средний обидчик не является незнакомцем или кем то еще осужденный преступник следит за вашим домом: это кто-то, кого вы знаете, кто-то, кого вы уважаете и доверяете, и кто-то, кого вы, скорее всего, будете рады впустить.
Сексуальное насилие не только распространено, но и вредно.- для тех, кто переживает это. Взрослые, которые были детьми и подверглись насилию в детском возрасте (по сравнению с людьми, которые не были) отчет поразительный спектр проблем, включая, но не ограничиваясь, расстройства настроения (такие как депрессия), тревожные расстройства (типа посттравматического стрессового расстройства), расстройства личности, отношений и сексуальных проблем, расстройства пищевого поведения, членовредительство, алкоголя и наркотиков, и даже психоз. Несмотря на то, что не существует специфического набора признаков или симптомов - не все жертвы страдают одинаково и в одинаковой степени,—анализ данных как клинических, так и неклинических образцов показал, что- сильные и последовательные ассоциации между опытом раннего сексуального контакта со взрослым и множеством неблагоприятных исходов для взрослых. Наиболее консервативный конспект ситуации состоит в том, что сексуальное насилие является значительным фактором риска для широкого спектра психологических проблем и расстройств у взрослых. Неудивительно, что медицинские работники в области психологии и психиатрии посвятили огромное количество времени и усилий тому, чтобы помочь жертвам справиться с психологическими проблемами, возникшими у них после сексуального насилия, и оправиться от них.
Точно так же, как врачи подходят к лечению медицинских проблем, специалисты в области психического здоровья считают, что лучший способ помочь пациентам, страдающим от психологических проблем, - это установить первопричину— точный механизм, стоящий за этими проблемами. Установив точную природу причины, они могут лучше ее лечить. Так какова же точная природа психологической боли и проблем, о которых сообщают жертвы сексуального насилия?
Ответ может звучать как простой вопрос: Если вы испытываете психологический стресс после сексуального насилия, тогда причиной должно быть сексуальное насилие. Но на самом деле все не так просто. Что конкретно в жестоком обращении вызвало этот дистресс? Имеет ли это отношение к объективным характеристикам злоупотребления (например, сколько раз это происходило или имело ли место проникновение)? Имеет ли это отношение к субъективным характеристикам насилия (насколько болезненным, пугающим или шокирующим оно было)? Возможно, это имеет меньшее отношение к фактическому насилию и больше связано, скажем, с конкретным ребенком (сколько ему было лет и насколько генетически предрасположен к долгосрочным психологическим проблемам) или окружающая среда, в котором произошло насилие (миф, характеризующийся бедностью, физическим насилием или пренебрежением). Возможно, это связано с когнитивными или социальными последствиями жестокого обращения (как семья жертвы или медицинские работники восприняли его или как жертва поняла или концептуализировала его позже в жизни). Существует множество способов понять, как и почему сексуальное насилие наносит ущерб жертвам. Однако в течение десятилетий основное внимание было сосредоточено на одном— самом инциденте.
В конце 1970 - х годов была разработана теория, согласно которой сексуальность, широко принятыя в 1980 - х годах и сегодня остающийся практически неоспоримым в области психологии, называется травматическим стрессом (или травматическим стрессом). В двух словах, идея состоит в том, что сексуальное насилие наносит ущерб жертвам не из - за конкретной природы жертвы, окружающей среды или последствий насилия, а из-за самого опыта насилия. Теория гласит, что сексуальное насилие наносит ущерб жертвам, потому что это травматический опыт для ребенка, когда это происходит. Так вот, слово “травма” означает для нас разные вещи для разных людей. Мой двоюродный брат вернулся со службы в Ираке и сообщил, что получить пулю в пустыне было травматично. Одна моя знакомая, когда косила газон, переехала лягушку и сказала мне, что видеть, как животное умирает на ее глазах, было травматично. Мой коллега говорит людям , что отказ от курения был травматичным. Студент только что вошел в мой кабинет и сказал, что подготовка к экзамену была травматичной. Однако то, как профессионалы в психологии определяют травматическое событие, ясно:
Это либо объективно опасно для жизни, когда это происходит или субъективно приводит к тому же самому виду сильного страха, ужаса или беспомощности, которые вызывают объективно опасные для жизни события. Согласно господствующей теоретической системе, сексуальное насилие, как и другие травматические переживания, наносит ущерб жертвам, потому что оно является пугающим, ужасающим, подавляющим или болезненным событием, когда оно происходит. То, как именно профессионалы считают, что травма приводит к длительному ущербу, является сложным. В основном переживание психологической травмы вызывает экстремальные, неестественно высокие уровни нейробиологическое возбуждение жертвы, возбуждение настолько сильное, что становится токсичным: оно дестабилизирует нейробиологию жертвы, приводя к длительной эмоциональной, поведенческой и когнитивной дисфункции, а в некоторых случаях даже к повреждению мозга. Другими словами, травма может вызвать цепную реакцию в нервной системе, которая влияет на уровень гормонов и нейромедиаторов и может повлиять на мозг. Травматизированный мозг может иметь плохо отрегулированные системы, способный справиться с последующими психосоциальными стрессорами.
Короче говоря, травматические события порождают глубокие и длительные- изменения в физиологическом возбуждении, эмоциях, познании и памяти. Травматическая модель включает в себя три основных допущения. Во-первых, как я уже говорил, травма является центральным понятием, используемым для объяснения долгосрочных последствий сексуального насилия над детьми. Во-вторых, путь, по которому травма сексуального насилия влияет на благополучие, является прямым; то есть эмоциональное расстройство, вызванное травмой сексуального насилия, сохраняется в течение длительного периода времени. Таким образом, хотя жертвы сообщают о различных негативных результатах во взрослом возрасте в результате сексуальное насилие - все это симптомы затяжного психического расстройства, этиология которого прослеживается непосредственно до первоначального сексуального опыта. Как объясняет Ленор Терр, один из ведущих экспертов по вредным последствиям сексуального насилия над детьми.
Подобно детской ревматической лихорадке, которая вызывает ряд состояний во взрослом возрасте, начиная от митрального стеноза и заканчивая подострым бактериальным эндокардитом и массивной сердечной недостаточностью, детская психическая травма приводит к ряду психических изменений, которые в конечном итоге объясняют некоторые взрослые.
Проблемы характера, определенные виды психотического мышления, большая диссоциация, крайние проявления пассивности, эпизоды самоуничтожения и различные депрессивные и тревожные расстройства. Несмотря на то, что сердечная недостаточность и подострый бактериальный эндокардит в зрелом возрасте выглядят очень по — разному, друг друга и требуют специфического лечения, их первопричина—“детская ревматическая лихорадка”—дает организационную схему всему подходу врача. Каждый хороший специалист знает, как получить и оценить историю ревматизма. Таким образом, точно так же, как ревматическая лихорадка вызывает множество проблем, сексуальное насилие в детстве вызывает множество проблем.
Третье предположение, заложенное в травматическую структуру, состоит в том, что переживания сексуального насилия над детьми относятся к континууму тяжести, который описывает уровень вызванного стресса и предсказывает степень, в которой ребенок будет страдать от долгосрочных негативных последствий. (Чем более травматичным было насилие, когда оно произошло, тем острее был долгосрочный негативный результат.)
Другими словами, степень травматического стресса, испытываемого во время сексуального опыта, лучше всего объясняет вариации долгосрочных неблагоприятных последствий. Как утверждает Джудит Герман, психиатр Гарвардской медицинской школы, в своей влиятельной книге “Травма и выздоровление": "Существует простая прямая связь между тяжестью травмы и ее психологическим воздействием.” Соответственно, если жертва сегодня сообщают о психологических проблемах после (как это обычно бывает), предполагая, что сексуальное насилие, когда оно произошло, было ужасным опытом—оно было пугающим, шокирующим и подавляющим.
Хотя все больше и больше специалистов и исследователей в области сексуального насилия признают, что другие факторы, не связанные непосредственно с насилием, могут иметь какое - то отношение к вредным последствиям, основной акцент в большинстве исследований был сделан именно на насилии. В течение по крайней мере трех десятилетий существовало представление о том, что последствия сексуального насилия проистекают из их травматических последствий, характер остается в значительной степени неоспоримым. Любой сексуальный контакт между детьми и взрослыми понимается как неизменно ужасный для ребенка—переживание, характеризующееся силой, угнетением, страхом и беспомощностью. Неудивительно, что травматическая теория сексуального насилия оказала глубокое влияние на то, как профессионалы говорят о сексуальном насилии и описывают его. Безусловно, наиболее распространенная концепция последствий сексуального контакта между взрослым и ребенком предполагает переживание как предъявление ребенку вредного стимула, который немедленно вызывает неблагоприятные эмоциональные реакции. Если вы загуглите “сексуальное насилие над детьми”, как это делают сотни тысяч людей каждый год, сайт Американской академии детской и подростковой психиатрии будет одним из первых для публичного доступа. На главной странице, посвященной сексуальному насилию над детьми, ясно сказано: “Ни один ребенок психологически не подготовлен к тому, чтобы справляться с повторяющимися сексуальными стимулами. Даже у двух-трехлетнего ребенка ... развиваются проблемы, возникающие из-за неспособности справиться с перевозбуждением”.
Сегодня сексуальное насилие очень редко описывается без слова “травма” или без намека на то, что переживание связано со страхом и насилием. Лечебные центры называются травматологическими центрами. Половые акты в отношении детей описываются как “сексуальные нападения” или “насильственные столкновения".” По словам Ленор Терр, сексуальное насилие над детьми - это “ужасное внешнее событие в детском мире ... временно лишающее молодого человека помощи и нарушающее обычные копинг - и защитные операции”. Другой чрезвычайно влиятельный исследователь, Дениз Гелинас, утверждает: “Нет никаких сомнений в том, что насилие представляет собой серьезную травму для ребенка, тот, который сбивает с толку и глубоко угрожает ...
Наиболее преобладающим аффектом, о котором сообщается, является страх” ставшей беспомощной под воздействием подавляющей силы ...
Общим знаменателем травмы является сильный страх, беспомощность, потеря контроля и угроза уничтожения”. Сексуальное насилие, согласно стандартной диагностической системе, используемой врачами и психологами (DSM IV), существует в той же категории травматических событий, что и боевые действия, изнасилования и стихийные бедствия. Как следствие, многие исследователи, изучающие психологическое воздействие сексуального насилия, даже не утруждают себя подробными расспросами жертв вопросы о том, был ли опыт травматичным , когда это произошло; они просто предполагают, что это было. Подобно изнасилованию или драке, сексуальное насилие автоматически “засчитывается” как травматический опыт. Если жертва сексуального насилия сообщает о психологическом ущербе после него, автоматически предполагается, что ущерб является функцией степени травмы, которую жертва испытала во время насилия. На самом деле, предположение о травме так привито, большинство специалистов считают, что если жертва не сообщает о жестоком обращении как об ужасном опыте, когда оно произошло, они часто предполагают, что были заданы неправильные вопросы или жертва неправильно помнит фактические события.
Естественно, то, во что верят, исследуют и пишут специалисты, специализирующиеся на сексуальном насилии и травмах, доводится до сведения широкой общественности. Травматическая концептуализация сексуального насилия имеет, по словам историка медицины Бена Шепарда, была “введена в общество” и оказала огромное влияние на то, как оно представлено в средства массовой информации и впоследствии поняты всеми нами.
Книги о сексуальном насилии, нацеленном на жертв, обычно открываются такими отрывками, как, Речь идет о тишине ночей, проведенных в сдерживании криков, сдерживании слез, сдерживании самого себя.
Если вы читаете эту книгу, то это потому, что вы вспоминаете ужасный и пугающий опыт сексуального насилия. Почему жертвы не делятся своими секретами? Из- за цикла насилия, стыда и неразделенных, неразделимых мучений. The Courage to Healing, впервые опубликованная в 1988 году с двадцатым юбилейным изданием, все еще хорошо продававшимся, прекрасно иллюстрирует это травматическое позиционирование. Это, без сомнения, книга, наиболее широко читаемая жертвами и цитируемая профессионалами.
В этом пятисотстраничном томе постоянно упоминаются травмы, такие как “кровь”, “изнасилование”, “содомия”, “ужас” и “боль”, используемый для описания сексуального насилия. Жертвы, которые читают его, постоянно говорят, что даже если они чувствуют себя иначе, то, что с ними произошло, было сделано против их воли. По мнению авторов, жестокое обращение было навязано им; они были “совершенно беспомощны” и “изнасилованы против своей воли”.
В течение тридцати лет тема сексуального насилия постоянно всплывала в потоке активности, общественного беспокойства и внимания средств массовой информации, связанных с такими темами, как жестокое обращение в детских садах, восстановленные воспоминания о сексуальном насилии, переживания знаменитостей как жертв, так и насильников, а совсем недавно-сексуальный скандал в США. Римско-католическая церковь. Чтобы подчеркнуть то важное место, которое модель травмы занимает в нашем понимании сексуального насилия, практически каждый комментатор разделяет мнение о том, что сексуальное насилие было ужасным, когда оно произошло, и, как следствие, глубоко разрушительным для нас - жертв. Неудивительно, что когда мы читаем о сексуальном насилии в новостях, смотрим о нем по телевизору или становимся свидетелями в кино, это почти всегда происходит в контексте зловещих, сенсационных историй, имеющих отношение к таким темам, как изнасилование мальчиков из хора с бледными, влажными глазами.
Католические священники, интернет - сталкеры, заманивающие молодых детей на секс через свою электронную почту, международная секс-торговля молодыми латиноамериканцами и бразильцами, а также изнасилование младенцев в детских садах. В Мистик–Ривер, удостоенном премии "Оскар" фильме, основанном на книге под тем же названием незнакомцы похищают маленького мальчика и сексуально насилуют его в подвале (этот фильм часто показывают на “стартовых ” мероприятиях, когда сообщества повышают осведомленность о сексуальном насилии). Действительно, имеющиеся культурные сценарии способствуют и поддерживают в нашей культуре представление о том, что сексуальное насилие включает в себя страх, силу и принуждение.
Будучи АСПИРАНТОМ В HARVARD в 1990-х годах, я никогда не думал подвергать сомнению концепцию травмы сексуального насилия. Зачем мне это? Какой, это имело смысл. Для меня, как и для большинства из нас, сексуальное насилие является болезненным для размышлений. Мысль о том, что взрослые используют детей в сексуальных целях, откровенно говоря, морально и физически отвратительна. Я предполагал, что дети-жертвы будут чувствовать то же самое.
Во-вторых, эксперты в моей области научили меня так думать о травмах. Теория травмы закрепляла подавляющее большинство исследований сексуального насилия. С чего бы мне сомневаться? Меня неоднократно уверяли, что психология - это наука. А главное правило науки простое: верьте только тому, что подтверждают факты.
Наука-это поиск истины. Погоня, истина требует ясного мышления, твердых рассуждений, логики, честности, строгих аргументов и особенно доказательств.
После многих лет, когда люди в моей области вдалбливали в меня важность установления своих убеждений на объективных доказательствах, я предположил, что одобренная теория будет именно такой. Мне никогда не приходило в голову думать иначе. Я доверял своей области и ее приверженности научному процессу.
Вдобавок ко всему, не только эксперты в этой области говорили мне, что сексуальное насилие травматично для жертв и что эта травма напрямую связана с долгосрочной перспективой, многие сообщают о психологических повреждениях, но они говорили мне, что это было настолько травматично, что некоторые жертвы подавляли воспоминания о своих переживаниях до более позднего возраста.
Предполагалось, что уровень стресса, который испытывали жертвы во время жестокого обращения, был настолько высок, что они подвергали риску область мозга, называемую гиппокампом, которая отвечает за обработку и хранение воспоминаний. Как следствие, жертвы не смогут вспомнить, что с ними произошло.
В соответствии с этой точкой зрения жертвы иногда сообщают, что забывают о том, что с ними произошло, а затем вспоминают- несколько лет спустя, потому что жестокое обращение было чрезвычайно травматичным, когда оно произошло.
Хотя Зигмунд Фрейд и его близкий друг и соавтор Йозеф Брейер впервые разработали эту концепцию подавления более ста лет назад, она проникла в наше культурное сознание только в начале 1990 - х годов.
По всей стране люди начали говорить о сексуальном насилии и “восстанавливать” собственные воспоминания. Знаменитости вышли на национальное телевидение, чтобы поделиться своими историями; детские сады были закрыты из - за сообщений о сексуальном насилии; ФБР пришлось начать расследование по этому поводу. Предполагаемые восстановленные воспоминания, связанные не только с обычным сексуальным насилием, но и с сексуальным насилием, связанным с сатанинскими культами.
Многие специалисты в области сексуального насилия придерживались концепции репрессий, но некоторые, включая сотрудников моего отдела, этого не делали. Скептики вроде Дэниела Шактер, в то время глава моего отдела и один из самых влиятельных исследователей памяти в мире, и Ричард Макнелли, мой советник и известный специалист по посттравматическому стрессовому расстройству, отметили, что, согласно большому объему лабораторных и реальных данных, Травматические переживания обычно запоминаются слишком хорошо; то есть эмоциональное возбуждение в момент события на самом деле способствует консолидации и последующей доступности памяти о нем. Так почему же, если сексуальное насилие было травматичным, жертвы забывали об этом?
Далее, почему только жертвы сексуального насилия подавляли и восстановление их памяти? Почему жертвы других видов травматических событий (таких как боевые действия или тюремное заключение) не делают этого так же? Эксперты в области травматологии, такие как Джудит Герман, Бессель Ван Дер Кольк и Ленор Терр объяснили, что в травмах жертв сексуального насилия есть нечто уникальное. Однако, что конкретно это может быть, не было особенно точно определено.
Когда ПОЯВИЛСЯ ПРОЕКТ, направленный на решение этой проблемы, который позволил бы мне опросить жертв сексуального насилия и собрать данные о том, насколько травматичным было сексуальное насилие, я ухватился за этот шанс. Все казалось таким простым. Все, что мне нужно было сделать, это найти жертв сексуального насилия, задать им вопросы о том, на что был похож опыт, когда это произошло, а затем проверить гипотезу о том, что чем больше сексуальное насилие было травматичным, когда оно произошло, чем больше психологических повреждений пострадавшие перенесут в последствии, и тем более вероятно, что они будут подавлять свои воспоминания. Обе гипотезы имели смысл: мне просто нужно было собрать данные. На самом деле они были настолько просты, что я был удивлен, что повторный поиск еще не был завершен и не был доложен.
Перед началом исследования другие аспиранты спрашивали меня, беспокоит ли меня участие в такого рода исследованиях. Разве я не думал, что будет больно разговаривать с жертвами, слушать их истории? Разве я не хотел выбрать что-то менее сложное, чтобы занять свое время? Но я был наивен. Я так не думал. Все, что я уже делал в аспирантуре, было психологически болезненным (интервью с шизофрениками, самоубийцами и алкоголиками), так что разве могло быть хуже? Сравнительно, Я был настроен оптимистично. После всех лет исследований казалось, что наша область никогда не сможет вылечить шизофрению, депрессионные методы лечения не всегда срабатывали, и заставить алкоголиков с генетическим маркером алкоголизма бросить пить оказалось чрезвычайно трудно. Этот проект все было по-другому. Основываясь на том, что я прочитал, я чувствовал, что за последние двадцать лет в этой области был достигнут прогресс в отношении жертв сексуального насилия, что впервые в истории общественное и профессиональное внимание было серьезно мобилизовано на эту важную тему. Поэтому я был в восторге от того, что стал его частью. Я был уверен, что подобные исследования действительно помогут нам решить проблемы и ответить на вопросы жертв.
Моей самой большой заботой было найти жертв сексуального насилия, которые согласились бы прийти и поговорить со мной. Не был для них приятным—им предстояло ответить на подробные и личные вопросы о своем опыте, - и я, конечно, не мог предложить им ничего взамен за их время.
Многие ученые в области сексуального насилия говорили мне, что лучший способ найти испытуемых-это искать их в кабинетах психотерапевтов, специализирующихся на лечении сексуального насилия. Таким образом было бы легко обнаружить жертв. Но вот в чем была проблема. Согласно данным, большинство людей, подвергшихся сексуальному насилию, не обращаются к психотерапевту, чтобы рассказать о том, что с ними произошло. Выбирая для просмотра только жертв в терапии, я бы использовал двумерную выборку.
Я решил сократить предвзятость, запустив рекламу в среде, где ее увидит как можно больше людей из разного населения. Я решил разместить рекламу в "Бостон глоуб" (и, в конце концов, в других крупных газетах большого Бостона). Мои опасения по поводу поиска жертв сексуального насилия, желающих поговорить со мной, оказались необоснованными.
Когда я пришел на работу в тот день, когда впервые запустил рекламу, меня уже ждало более пятидесяти сообщений. Оказалось, что у меня не будет проблем с общением с храбрыми и великодушными жертвами сексуального насилия - тех, кто будет участвовать в исследованиях, посвященных их опыту.
В течение десяти лет более двухсот мужчин и женщин участвовали в этом и других подобных проектах, связанных с сексуальным насилием, вместе со мной и моими коллегами из Гарвардского университета (моя выборка состояла примерно из 65 процентов женщин, 35 процентов-из мужчин). К каждой из них в детстве прикасался взрослый. По юридическим, профессиональным, общественным и гарвардским стандартам они явно соответствовали критериям жертв сексуального насилия. Среди выборки был генеральный директор в интернет-стартапа, несколько только что условно освобожденных, кто только что освободился из пятилетнего тюремного заключения за торговлю наркотиками, героином наркоман при ломке, который дрожал на протяжении всей нашей дискусии, великолепная модель, две Лиги Плюща выродков, работающих на НАСА, финансируемые исследования, художница, работающая над своей первой выставкой в галерее, открывающейся в Нью-Йорк, женщина, живущая с собакой вне ее Додж Бронко, вдовствующая вдова из Бэк - Бэй, чей муж только что ушел от нее к мужчине после пятидесяти лет брака, адвокат по судебным делам, который принес мне на подпись бланк своего согласия, подросток с проколотой губой и большой татуировкой на затылке, который, предполагающий эмансипацию от приемной семьи и многое другое. Они были разнородной группой, но их объединяли две очень важные характеристики.
Первое, чего я ожидал: Почти с каждой жертвой я говорил с сообщением, что их детские сексуальные переживания повредили им. Как предсказывали исследования сексуального насилия, с которыми я был знаком, они обычно испытывали симптомы психологических расстройств (например, депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство). Хотя не все они соответствовали критериям реальных психологических расстройств, большинство из них сообщали о множественных неблагоприятных последствиях злоупотребления. Они верили, что случившееся с ними негативно повлияло на их жизнь и отношения с другими. Кроме того, забывание о сексуальном насилии (предполагаемом повторном давлении) не было редкостью: у меня не было проблем с поиском людей из разной популяции, которые сообщали о периодах, в течение которых они не помнили своего сексуального насилия.
Второй общности между жертвами я не ожидал. В разительном контрасте с предположениями травматической модели, что бы ни вызывало психологический и когнитивный ущерб, перенесенный этими жертвами, не имело ничего общего с травмой; очень немногие жертвы сообщали о каком - либо страхе, шоке, силе или насилии в момент насилия.
На Что Это Было Похоже. Когда Это Случилось?
- Мне было интересно, почему кто-то хочет дотронуться до меня там ... Это казалось неправильным, но я не была уверена, почему.”
—ЛЕКСАНДРА , ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ, ПРАКТИКУЮЩАЯ МЕДСЕСТРА , МАТЬ ТРОИХ ДЕТЕЙ.
Эрин Ти ЭЙЛОР БЫЛА ПЕРВОЙ, КТО позвонил в тот день, когда мое первое объявление появилось в газете. Судя по моему голосовому ящику, она позвонила в 5:15 утра.
Когда я связался с ней, она сказала, что не уверена, что соответствует критериям исследования.
“Ладно, - сказал я. - Вы подвергались сексуальному насилию в детстве?”
“Я не уверена,” сказала она.
Не уверен? (Как вы можете быть не уверены? - удивился я.)
Я перефразировал вопрос. - Вступал ли с вами в половой контакт взрослый человек старше восемнадцати лет до того, как вы достигли половой зрелости?” Не колеблясь, она
согласилась. После того как мы обсудили детали ее жестокого обращения и она согласилась принять участие в исследовании, и мы назначили время, когда она придет ко мне в офис для интервью.
Эрин пришла на собеседование рано, неся латте из Старбакса, выглядя как кинозвезда. Она была высокой и худой, с длинными блестящими светлыми волосами, в красивом облегающем кремовом брючном костюме, на трехдюймовых каблуках из крокодиловой кожи, с часами от Картье и бриллиантовыми заклепками. У нее были идеально вылепленные брови. Я остро осознавал, что только что скатилась с кровати и был одет в точно такую же бежевую толстовку и джинсы свободного покроя, как и раньше, носил накануне.
Эрин энергично пожала мне руку, села, скрестила длинные ноги и достала кожаный футляр для очков. Она осторожно сняла крошечные очки в золотой оправе, изящно водрузила их на кончик изящного носа и принялась внимательно читать бланк согласия, который я ей вручил. Она казалась спокойной и полностью собранной. У Эрин было несколько вопросов относительно конфиденциальности темы; для нее было очень важно, чтобы никто никогда не узнал, что она участвовала. Я подчеркнул, как могут быть использованы данные в науки или книги, но что все идентифицирующие признаки, такие как ее настоящее имя, возраст и род занятий, будут изменены таким образом, что никто не сможет ее опознать. Кроме того, она не была в восторге от магнитофона. Было ли это действительно необходимо? Я так и думал.
Мне предстояло переписывать эти интервью, и я хотел убедиться, что то, что эти жертвы говорили мне, было тщательно и точно записано.
После того, как она подписала бланк согласия своей собственной авторучкой, я предложил ей несколько Жевунов, которые я привез с собой из Dunkin’ Donuts. Она отказалась вежливо и посмотрела на часы. - У нас остался один час и сорок девять минут. Ну что, начнем?”
Я включил магнитофон. Я собрал информацию об Эрин. Она была одинока, и ей было двадцать восемь лет. Она выросла в богатом пригороде Бостона. У нее была младшая сестра, и родители развелись, когда она была совсем маленькой. Она посещала эксклюзивную частную школу, училась в колледже Лиги Плюща, где специализировалась на финансах, работала на Уолл - стрит финансовым аналитиком и получила степень MBA в престижной бизнес-школе. Последние два года она работала в бостонской консалтинговой компании и ездила по делам три дня в неделю. По ее собственным словам, “В сущности, я живу из своего чемодана.” У нее не было детей, она не была религиозна, физически здорова и никогда не ходила к психологу.
Пора было начинать разговор о самом насилии. Я объяснил ей, что в соответствии с протоколом допроса я начну со сбора информации об объективных характеристиках насилия: какого рода насилие имело место, кто был преступником, сколько ему лет, сколько ей было в то время, и сколько раз это случалось. Она кивнула, но предупредила меня, что это может быть трудно для нее, так как она никогда никому не рассказывала о насилии до этого. Это застало меня врасплох. Интересно, почему? Я также задавался вопросом, почему она хотела открыться после стольких лет молчания. Она, казалось, почувствовал мое замешательство, и мне не придется спрашивать, она сказала мне, что думала, “может чувствовать себя хорошо, чтобы говорить об этом, ведь этих лет” и то, что она “не знала меня” и “ никогда больше не увидит меня” сделало это исследование привлекательным.”
Учитывая, что она сказала, что никогда раньше не говорила о насилии, интервью прошло гладко. Она понимала все вопросы и отвечала на них кратко и ясно, без малейшего намека на эмоциональное расстройство. И информация, которую она предоставила мне до сих пор, была тем, что я ожидал услышать. Преступник был взрослым членом семьи; ей было девять лет, когда это произошло; это включало в себя генитальные прикосновения (“Он попросил меня мастурбировать его”), проникновение (“Он засунет свои пальцы внутрь меня”) и орально-генитальный контакт (“Он попросил меня исполнить”); и это происходило от пяти до десяти раз в течение шести месяцев. Основываясь на объективных характеристиках переживаний жестокого обращения (кто, что и когда), она полностью соответствовала стандартному профилю жертвы жестокого обращения. Но остальная часть интервью прошла не так хорошо. Я попросил Эрин рассказать о субъективных характеристиках насилия: на что было похоже сексуальное насилие, когда оно происходило, как она реагировала на него, что чувствовала и что делала. Именно в этой части интервью я буду собирать данные в сердце исследования—данные о том, насколько травматичным было насилие для жертвы. Согласно протоколу собеседования, Я бы начал с того, что попросил Эрин количественно оценить по пятибалльной шкале вопросы, связанные с тем, насколько травматичным было насилие, когда оно произошло (пять было очень много; один-совсем нет).
- Ладно, можешь оценить, насколько ты была напугана?”
- Испугалася?”
- Да, испугалася.”
- Ммм. Вы имеете в виду, во время насилия?”
- Да, во время жестокого обращения.”
- Не очень ... Может быть, два?”
- Вы можете оценить, насколько это было болезненно для вас ... по той же пятибалльной шкале?”
“Больно? Нисколько. Нет, не больно. Один.”
- Ты можешь сказать мне, как ты была потрясена?”
- Ну, сначала это было удивительно, так что, может быть, тройка?”
- А как насчет перегруженности? Вы чувствовали себя переполненной, когда это происходило?”
- Хм. Нет, я бы не сказала, что ошеломлена.
Может быть, полтора?”
- Ладно, в общем, насколько травматичным, по—твоему, было это переживание, когда оно произошло?”
- Хм ... в то время, когда это случилось?”
"да.”
- Около двух.”
Принимая во внимание, что Эрин определенно соответствовала критериям жертвы сексуального насилия, и принимая во внимание мои внушение теории, что сексуальное насилие всегда было травматический опыт для ребенка-жертвы, я задавался вопросом, как ее оценки травмы могут быть настолько низкими. Мне было предложено придерживаться стандартных вопросов и не слишком отклоняться от протокола собеседования. Но что то, что я слышал, просто не имело смысла. Я решил отказаться от интервью и рассматривать Эрин в качестве экспериментального субъекта, который мог бы помочь мне убедиться, что мои вопросы интервью имеют смысл.
“Эрин,” сказал я. - В девятилетнем возрасте тебя несколько раз изнасиловал человек, которому ты доверяла ...
Почему это не было более травмирующим для вас, когда это происходило?”
Она посмотрела прямо на меня своими ясными, ледяными голубыми глазами. - Потому что я не понимаю, что происходит.”
- Что вы имеете в виду?” Сказал Я.
- Я хочу сказать, что не понимала, что такое секс. Я не понимала, о чем он меня просит. Я не знала, почему он хотел, чтобы я сделала это,иприкоснулась к нему там, положила это в рот. Я не знала хоть что-нибудь о сексе. Я предполагала. Я вела уединенную жизнь. Он сказал, что это нормально, и я решила поверить ему. Но даже если она не совсем понимала, что происходит, она ведь могла сказать, что это неправильно, верно? Что этого не должно быть?
—По тому, как он вел себя, я поняла, что мне не следует говорить об этом, и как только входная дверь открылась, он очень быстро вскочил, так что я поняла, что мы делаем что-то не то.”
Но если она знала, что это неправильно, почему не остановилась? Не сказала "нет"? Почему это происходило так часто? - Я помолчал немного, а потом спросил: - Как ты думаешь, почему ты никому не сказала?”
В первый раз она не ответила. Она закрыла глаза, положила длинные пальцы на лоб и принялась массировать брови. Через некоторое время она наклонилась и начала рыться в своей большой кожаной сумочке.
- Тебе что-нибудь нужно?” Я спросил.
“Нет,” сказала она. - Я в порядке. Совершенно нормально.”
Я не видел ее лица, но слышал приглушенное сопение. Я протянул руку и протянул ей книгу.
Коробка "Клинекс" на моем столе. После того как она вытерла глаза и высморкавшись и ненадолго заглянув в дамскую комнату, она казалась другой—менее отстраненной, более расслабленной. Она съела пончик.
- Послушай, все очень сложно. Я знала его. Он был частью семьи ... Если бы это был незнакомец, я бы, наверное, сказала "нет", просто убежала. Но это был не незнакомец. Я любила его. Я ему доверяла. Мне и в голову не приходило, что он захочет сделать что-то подобное ... Вдобавок ко всему, он был взрослым, а мне всегда говорили слушать взрослых, делать то, что они просят ... Я не хотела говорить "нет", говорить " нет " тому, о чем он попросит. И почему я должна была обманывать его? Я даже не могла объяснить
... Мне не приходило в голову, что он может причинить мне вред ... Я приняла решение.
Я провела своего рода анализ затрат и выгод, хотя, конечно, не смогла бы понять его в полной мере.
Что будет, если я скажу "да"? Я не была уверена, может быть, попасть в какую — нибудь беду? Цена отказа—необходимость бросить ему вызов или противостоять взрослому. Это было бы трудно сделать. А польза? Если бы я сделала это—то, чего я на самом деле не понимала,—я бы сделала его счастливым … Что бы это ни было, очевидно, это было то, чего он хотел ... Я хотела сделать то, что он хотел ... Я думаю, вы могли бы сказать, что я стремилась угодить.” В девятилетнем возрасте Эрин столкнулась со сложным решением, в котором, с ее точки зрения как ребенка, не было четко правильного выбора. В отсутствие необходимой информации (например, что такое секс и почему его поведение было неправильным, какие долгосрочные последствия могут быть для нее или для него, если кто-то узнает), она сделала лучший выбор, который могла.
В конце интервью Эрин сказала, что очень рада, что нашла время зайти, чтобы поговорить о сексуальном насилии и “наконец - то избавиться от этого чувства".” Я чувствовал себя иначе. Все пошло не так, как я ожидал.
То, что сказала мне Эрин, не имело никакого смысла. Для меня было ужасным переживанием даже услышать о подробностях ее жестокого обращения - шокирующего, отвратительного, душераздирающего—так почему же это не было еще ужаснее для нее, когда это действительно произошло? Сначала я предположил, что Эрин была необычной жертвой— что я выбрал не ту тему для своего первого взгляда. Но оказалось, что это не так.
СЭМЮЭЛ БЫЛ ШЕСТИФУТОВЫМ , чрезвычайно привлекательным афроамериканским полицейским. Ему было под сорок, и он общался со взрослыми детьми, и он был следующим участником моего исследования. Как и Эрин, Сэмюэль явно соответствовал критериям сексуального насилия. В детстве я ходил в этот библейский лагерь ... В том районе, откуда я родом, летом делать было нечего, кроме как попадать в неприятности, поэтому мама отправила меня туда. Мне было лет девять или десять ... Они не хотели, чтобы мы ходили в ванную одни, поэтому обычно с тобой ходил один из вожатых. Ему было лет двадцать. Его звали Джон, и мы думали, что он был довольно крут с нами, детьми, поэтому мы любили его больше, чем других. Мне нужно было пописать, но я не хотел писать перед ним, поэтому пошёл в кабинку. Когда я вышел, он сказал, что должен проверить меня, чтобы убедиться, что я вымылась как следует. Я не понимал, о чем он говорит, но он велел мне снять штаны и показать ему … Он сказал, что она не чистая, что я испачкался, и сказал, что будет чистить ее ртом. ... Потом он сказал, что пришлось пойти в ванную, а потом проверить, чист ли он ... Мне пришлось положить его в рот, чтобы проверить ... Он заставил меня подержать его во рту некоторое время. Я не думаю, что он кончил—эякулировал, если вы понимаете, что я имею в виду,—но я не уверен. Он проделал это несколько раз за оставшуюся часть вечера.
Иногда мне приходилось протирать его салфеткой и рукой, иногда-во рту. Исходя из объективных характеристик, Сэмюэл был “нормальной” жертвой сексуального насилия. Он подвергся насилию со стороны кого - то, кого он знал, насилие включало оральный секс, и ему было около десяти. Но опять же, когда дело дошло до части, когда мы обсуждали субъективные характеристики насилия, меня ждал сюрприз. Сэмюэл, как и Эрин не сообщил, что насилие, когда оно произошло, было особенно травматичным.
- Тебе было больно?”
- О, нет. Нет, я бы не сказал, что это больно.”
- Ты испугалась?”
“Нет, вовсе нет. Может быть, немного странно. . . . Смущение - более подходящее слово.”
“Вы шокированы или в ужасе?”
- Нет, это слишком сильно сказано. Может быть, удивлен?”
- Не могли бы вы рассказать мне, каким было для вас насилие, когда оно произошло?”
- Я бы сказал ... сложно. Давайте посмотрим ... Это трудно честно говоря, я действительно не понимал, что происходит. Я был довольно невинным ребенком ... На самом деле я не знал, что такое минет... На самом деле, что происходило у меня в голове, так это почему он хотел, чтобы я поцеловала его [там].”
- Так ты хочешь сказать, что не понимал, что происходит? Вы не поняли, что это было сексуально по своей природе?”
- Я не понял ... Я имею в виду, если бы мне пришлось кому-то рассказать, я бы не смог описать, что мы делали.
... Я вроде как чувствовал, что это неправильно … то, как он реагировал—как будто пытался быть спокойным и говорил мне, что мы не должны говорить об этом ... Кроме того, это не было больно или что-то в этом роде. ... Так что не было никаких звоночков, никаких сигналов тревоги-ух-ух-ух, это неправильно.”
ВСКОРЕ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С СЭМЮЭЛЕМ я увидел Кэрол, сорокашестилетнюю домохозяйку. Трое ее детей играли на кухне у входа в лабораторию, пока я наблюдал за ней.
Когда мне было шесть лет, мой отец умер, и мы переехали в дом моих ... бабушки и дедушки. Они жили в старом фермерском доме в Коннектикуте. одиноко там ... Раньше мы жили в городе ... Теперь … Я жила на этой пятиакровой ферме в глуши, но любила своих бабушку и дедушку. Я была близка с ними ... Моя мать была очень близка со своей матерью. Они всегда были вместе, но мы с дедушкой были ... неразлучны. В то время он был моим лучшим другом—моим единственным близким другом ... Мы жили там около двух лет, и я проводила много времени с моим дедушкой, и он был не очень хорош - он не мог слишком хорошо передвигаться, поэтому много времени ... он проводил в телевизионной комнате, которая была рядом с крыльцом … Ну, вот и начинается самое трудное ... Иногда когда я смотрела телевизор, то сидела у него на коленях … а иногда, когда я сидела у него на коленях, он клал на меня руки ... под юбку ... под нижнее белье ... и, ну, он чувствовал меня … область влагалища ... Это было, происходило в течение года или около того ... Иногда он прижимался ко мне, терся моей промежностью о его, и он очень тяжело дышал ... Иногда я чувствовала влагу; мои трусики были липкими. Кэрол была немного моложе большинства жертв, но, безусловно, в пределах обычного возраста. Как и Эрин и Сэмюэл, с объективной точки зрения, она явно подвергалась насилию—взрослый занимался с ней сексом, когда она была маленькой. Но с субъективной точки зрения, будучи ребенком, она не рассматривала это как насилие. Она доверяла преступнику, и то, что он делал, не причиняло ей вреда. Она понятия не имела, что такое секс. Хотя она чувствовала, что это неправильно, она не была полностью уверена. Она решила, что лучше всего будет просто смириться с тем, что с ней делают.
- Я тебе скажу, мне не нравилось то, что он делал, но я просто не очень понимала ... Наверное, я просто думала об этом, как о чем-то, что мы делали на коленях у дедушки, когда смотрели телевизор.”
Рассказы ЭТИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ в конечном итоге оказались заметно согласованными с тем, что другие жертвы, которые - рассказали мне об этом в последующие годы. На самом деле, менее 10% участников сообщили, что переживали свое насилие как травматическое, ужасающее, подавляющее, угрожающее жизни или шокирующее в то время, когда оно произошло. И почему это не было травматичным? Обычно преступником был тот, кого они знали, кем восхищались, кого любили и кому доверяли, а не, как выразилась одна жертва, “урод в хоккейной маске и с ножом.” Кроме того, то, что этот человек просил их сделать, не причиняло вреда—это почти всегда включало прикосновение или поцелуй гениталий — и не сопровождалось силой или агрессией. Как рассказала Кристин, двадцатисемилетняя студентка-архитектор, “Однажды ночью я проснулась, а он [ее новый отчим] стоял на коленях рядом с моей кроватью. Он сказал, что ему нравится смотреть, как я сплю. Он сказал, что я красивая. Что было приятно видеть меня спящей так мирно. И все такое. Потом я думаю, что в первый раз он взял мою руку и положил на себя. На его члене. Он двигал ее вверх и вниз, а потом через некоторое время тяжело задышал, и тогда я почувствовал на руке какую-то влагу. Потом он сказал мне, что я такая хорошая девочка, что Я заставила его чувствовать себя хорошо.” Том, школьный психолог, сказал: “В этом не было ничего насильственного; не было ничего принужденного с угрозой, вы знаете, как "Я убью тебя" или "Я скажу твоему отцу". Все это было. И тонко в том смысле, что я даже не знала, что это неправильно.” Первоначально, с моей точки зрения как исследователя и ученого, не имело значения, что они знали, любили или доверяли преступнику. Не имело значения, что не было применено никакой силы или агрессии. Переживания все еще были ужасны, и слушание подробностей наполняло меня страхом, шоком и отвращением. Став взрослым, я понял, что происходящие события носят сексуальный характер, очень неправильны и являются вопиющим нарушением прав ребенка. Но я был вынужден снова и снова сталкиваться с этой перспективой. о жестоком обращении с ребенком. Я должен был выйти из своей собственной головы в их (как дети) и увидеть, что их реакции на эти переживания были другими. Жертвы говорили, что, поскольку они не понимали, что преступник делает или просит их сделать, у них не было возможности обработать или осмыслить сексуально окрашенные встречи. Слово, которое использовали 92 процента жертв, когда их просили описать, как они себя чувствовали? Путаница.
Некоторые случайно отобранные жертвы в моем исследовании описывали этот опыт следующим образом:
Это было странно, я не мог описать это.
Штаны у него были спущены; думаю, нижнего белья на нем не было. Для меня это просто не имело никакого смысла. Это не причиняло мне боли, и я была слишком молода, чтобы думать об этом как о сексуальном ... Этот опыт просто не вписывался в мои представления о добре и зле. Хотя они были сбиты с толку, большинство жертв, которые говорили со мной (около 85 процентов), сказали, что они чувствовали, что что-то в ситуации было не так. Опять же, некоторые из жертв, которые говорили со мной, описали это следующим образом:
Я знала, что это неправильно, что он засунул пальцы мне под трусики. ... Я знал в своем маленьком уме, что это неправильно. О, я знала, что что-то не так, но просто не знала, как это назвать. В какой - то момент он сказал, что я не должна никому рассказывать, потому что это было что-то особенное между ним и мной, и что это было очень нормально. Я ему поверил. Это было не нормально, но и не плохо тоже. В основном, когда это происходило, я понятия не имел, что происходит. Многие из жертв говорили, что они чувствовали, что происходящее было неправильным из-за того, как действовал преступник. Мне сказали, Я только знала, что это неправильно, потому что он сказал мне не говорить маме, и он будет настоящим тихо, он велел бы мне не шуметь. По тому, как он вел себя, я могла понять, что это было то, что мы не должны были делать.
Все, что я знал, диктовало, что жестокое обращение должно быть ужасным переживанием, что ребенок должен быть травмирован в то время, когда это происходит - переполнен страхом, шоком и ужасом. Но сексуальное насилие, описанное жертвами, с которыми я разговаривал, было совсем другим. Это была не черно-белая ситуация. Это было сложно, тонко. Доверенное лицо попросило каждого из этих детей сделать что - то, что он или она не полностью понимали. Хотя они часто чувствовали, что это неправильно, они не были уверены, почему.
Так что же они сделали? В резком контрасте со всем, что я привык думать о сексуальном насилии, они не боролись с ним. Это было сделано не против их воли. Они шли вперед—делали то, о чем их просили. По их собственным словам, они “участвовали”, “соглашались” и “позволяли”. На самом деле, из тех, кто чувствовал, что поведение было неправильным, только 5 процентов пытались остановить его—говоря "нет", убегая или рассказывая родителям. Почему? Теория травмы утверждает, что ребенок будет участвовать в жестоком обращении только в том случае, если принуждение, угроза или явное принуждение. Это было верно в очень небольшом меньшинстве случаев. У большинства жертв, с которыми я разговаривал, были совсем другие мотивы. По их словам, они не сопротивлялись насилию по трем причинам.
Во - первых, они рассказали мне, что когда они были детьми, взрослые часто просили их делать то, чего они на самом деле не понимали или не хотели делать. Принятие запутанных, неприятных вещей-это, к лучшему или к худшему, неизбежная часть жизни ребенка. Как выразился бухгалтер Дэйв: “Я бы сказал, что понятия не имел, что происходит. Что он, но я думаю, что в детстве так много того, что происходит с тобой, странно и сбивает с толку, что это просто как бы пополнило ряды остальных вещей ... В основном я был из тех детей, которые просто учатся принимать то, что им говорят взрослые, и не сильно жаловаться.
” По словам Марии, матери два подростка, проходившие курс лечения от рака молочной железы: “Он был моим врачом, и мне казалось, что каждый раз, когда я его видела, он делал что-то странное и вроде как причинял боль. Позвольте мне просто сказать, что это больно гораздо меньше, чем выстрел, который он сделал мне в плечо.
Во—вторых, детей не только регулярно просят делать то, чего они не понимают или что им не нравится, но и просят слушать взрослых - особенно взрослых, занимающих ответственные посты. Как сказал Боб, строитель: “Я вырос в такой семье, где слушают взрослых. Вы делаете то, что они говорят, и не задаете слишком много вопросов.” “Мне никогда не приходило в голову сказать” нет "тому, о чем меня просил учитель", - отметила Джой, психотерапевт. В словах Роберта, адвоката, специализирующегося на врачебной халатности: “Он был священником. Вы слушаете священников. Я сказал отцу, что не хочу идти, что не хочу проводить с ним время, и он сказал: "Просто заткнись ... Будь счастлив, что такой человек вообще хочет уделять тебе внимание".” Сопротивление жестокому обращению потребовало бы от детей подчинения власти, чего им не велено делать. Многие сообщали, что очень обеспокоены негативными последствиями отказа преступнику:
Он может обидеться на меня. Я этого не хотел.
Я не хотела ранить его чувства. Большую часть времени он был оченьмил.
Я не знаю почему, я не могу объяснить это, но было бы совершенно неловко сказать " нет "... и на самом деле не иметь причины, почему я говорю " нет" этому человеку.
Это было не совсем нормально, но я не собиралась отказываться. Он был моим учителем. Я не хотел, чтобы меня отправили в кабинет директора за неуважение.
Короче говоря, эти жертвы чувствовали, что могут сопротивляться, но для этого требовалось подвергнуть сомнению авторитет и они не чувствовали себя комфортно от этого, особенно когда не могли ясно сформулировать, почему они будут сопротивляться.
Теперь добавьте третий фактор, чтобы еще больше усложнить ситуацию: насильники часто награждали своих жертв за то, что они говорили “да". Они варьировались от конкретных требований, таких как подарки (“Он взял меня к Пенни и купил бы мне что - нибудь потом”, “Я очень любила мороженое, и он дал мне мороженое”), до абстрактных, но мощных требований, таких как любовь и внимание (“Он сказал мне, что я буду рад, если бы я любила его и хотела, чтобы он знал, что я люблю”, “В детстве я никогда не получал много внимания, и, по крайней мере, это было внимание”, “Тогда я искал любую любовь или одобрение, которые я мог бы получить”, “Я помню, что думал, что этот человек будет любить меня больше, если я сделаю это … Я так хотела, чтобы он любил меня, хотел быть рядом со мной”). Хотя я специально не спрашивал жертв о неблагополучном семейном происхождении или детской безнадзорности, многие сообщали, что часто оставались одни, как дети: “Оба моих родителя были заняты” или “Я пришел из дома с одним родителем. Отец ушел, и маме пришлось много работать, чтобы свести концы с концами. Я ее почти не видел.” Более нескольких добровольно, что они чувствовали себя забытыми, как дети: “я чувствовал, что это было неправильно, но дело в том, что я думал, мне нужно немного внимания”, или “мне было так одиноко в то время, не было братьев и сестер . . . и он, ну, я думаю, можно сказать, был рядом со мной . . . покупал мне вещи.”
Некоторые испытуемые—ни в коем случае не жертвы проникновения— сообщали, что они сексуально реагировали на то, что с ними происходило, что иногда это было приятно (“Я не понимал этого, но, думаю, мое тело понимало”; “Это сбивало с толку, но мне это нравилось. Это было приятно”; “Это был первый контекст в котором я получил сексуальное удовольствие”).
Один субъект, который подвергся сексуальному насилию со стороны своего лагерного вожатого, было довольно ясно, что в то время ему это нравилось: “Я часто искал, чтобы он прокрался ко мне на койку. Это было приятно. То, что он делал, было приятно. Это был первый раз, когда у меня была эрекция. Когда он остановился ... Я подумал, что он делает это с кем-то другим ... Я был зол на него”.
Другой мужчина сказал мне, что во время его насилия (со стороны священника) он испытал свой первый оргазм: “Мне было, сколько, может быть, двенадцать? Я понятия не имел, что это неправильно, но я также знал, что это было хорошо. Полный пиздец, если ты понимаешь, что я имею в виду.”
Иногда, как это ни печально, преимущества распространялись на лучшую жизнь для жертвы, как в случае с мужчиной (одним из 5 процентов жертв, чье насилие включало половой акт), который сказал мне: “Ну, иногда это было больно, но это было чертовски лучше, чем возвращаться в социальные службы.”
Хуже того, для некоторых жертв лучшая жизнь распространялась и на других:
Он сделал мою маму счастливой, и я не хотела вмешиваться в это. Он заплатил по счетам, купил нам машину ... Что угодно, это было похоже на небольшую цену, чтобы заплатить взамен. Короче говоря, несмотря на то, что многие жертвы чувствовали, что происходящее неправильно, им было очень трудно понять, что происходит и говорить"нет". Рассматривая насилие с их точки зрения, это начало иметь смысл для меня. Они не совсем понимали, почему это было неправильно. Преступник был кем-то, кого им велели слушать. Вдобавок ко всему, жертвы часто выигрывали от того, что говорили "да". Это была чрезвычайно сложная ситуация для этих детей—ситуация, с их точки зрения, без четкого правильного выбора. Так они сделали лучший выбор, который они могли сделать: они согласились. И мы не можем винить их за этот выбор. Учитывая, что они столкнулись с запутанными обстоятельствами, вооружившись недостоверной информацией, это было на самом деле вполне рационально.
По мере того как я узнавал все больше, во мне росло чувство тревоги. При поддержке исследовательских грантов и моих консультантов на факультете психологии я вложил в этот проект много времени, энергии и денег. Но, очевидно, я сделал что-то не так. Несмотря на все мои усилия, я, должно быть, нашел очень необычную группу жертв сексуального насилия. Верно?
Гарвардский УНИВЕРСИТЕТ и связанные с ним учреждения (Гарвардская медицинская школа, Кембриджская больница, больница Маклина) хорошо известны во всем мире как центры травматологических исследований. Нетрудно найти людей, с которыми можно было бы обсудить ваши открытия, и психологи, психотерапевты, клинические социальные работники и аспиранты были более чем готовы внести свой вклад, когда я пришел к ним со своими результатами. Их самая распространенная реакция? Именно это я и предполагал: в жертвах должно быть что - то необычное. Должно быть, у меня проблемы с выборкой.
Какая конкретно проблема? Возможно, жертвы, которые откликнулся на мое объявление, согласился участвовать и пришли на собеседование, испытали меньше жестокого обращении по сравнению с большинством других жертв. По словам клинического психолога, который лечил пациентов в Кембриджской больнице, пострадавших от насилия.
Если бы я посмотрел на объективные характеристики того, что происходило с моими жертвами, я мог бы обнаружить, что те, кто принимал участие в моем исследовании, испытали, по ее собственному мнению, слова, более “мягкое” насилие по сравнению с большинством других жертв в общей популяции. Чтобы определить, испытывали ли жертвы, участвовавшие в моем исследовании, более мягкое насилие, чем большинство, мне нужно было проследить все национальные исследования вероятности, которые существовали по объективным характеристикам сексуального насилия. По их словам, мне пришлось не согласиться с клиническим психологом, который специализировался на лечении жертв сексуального насилия. Не было ничего особенно доброго или необычного в жестоком обращении, которому подверглись субъекты, участвовавшие в моем исследовании. С точки зрения объективных характеристик насилия, их опыт отражал опыт общей популяции людей, подвергшихся сексуальному насилию. Насильники почти всегда являются кем - то, кого знают дети и их семьи, тип насилия, о котором сообщается, обычно включает поцелуи и прикосновения к гениталиям, сила или насилие редко встречаются - и травмы (незначительные или тяжелые) происходят менее чем в 10 процентов случаев. То, что произошло с жертвами в моем исследовании, удивительно согласуется с национальными выборочными исследованиями жертв в Соединенных Штатах.
Я полагал , что могу понять, почему психотерапевт, специализирующийся на лечении жертв сексуального насилия, которые обращаются к психотерапевту, предположил бы, что жертвы, участвующие в моем исследовании, испытали насилие, которое было относительно мягким. Некоторые исследования показывают, что в среднем жертвы, которые обращаются за лечением (или которых направляют на лечение), сообщают о злоупотреблениях более серьезных, чем обычно (например, злоупотребление, скорее всего, связано с применением силы или насилия или требует медицинской помощи). Таким образом, перевернув это объяснение психолога, я понял, что это было вероятно, жертвы, которых она видела в офисе и которые сообщали о необычном насилии, а не люди, участвовавшие в моем повторном исследовании. У главы отделения психиатрии Кембриджской больницы в то время было другое объяснение для меня. Если в жестоком обращении с людьми, с которыми я беседовал, не было ничего необычного, то, возможно, что-то необычное в том, что жертвы были детьми, заставляло их не травмироваться. Были ли они моложе или старше большинства.
Согласно национальным исследованиям, средний возраст сексуального насилия составляет около десяти лет, причем большая часть злоупотреблений происходит в возрасте около десяти лет и до двенадцати лет и примерно одна треть до девяти. Это было верно для моего образца. Затем он предположил, что, возможно, мне удалось найти особенно устойчивую выборку жертв, людей, которые по какой - то причине были “жестче” или “менее чувствительны” к нарушению социальных взаимодействий, чем большинство жертв. Это объяснение не имело никакого смысла. Насколько устойчивыми они могут быть? Почти каждый из них сообщил, что эти переживания повредили их: симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), тяжелая депрессия, злоупотребление наркотиками и алкоголем и сексуальные проблемы (в диапазоне от отсутствия интереса до неспособности к оргазму до гиперсексуальности) были чрезвычайно распространены. Из моей выборки 75% сообщили о проблемах с самооценкой; 50% сообщили о том, что чувствуют себя отрезанными от других или отчужденными из-за жестокого обращения; и почти 90% сообщили о трудностях в отношениях. Многие жертвы говорили, что жестокое обращение имело многочисленные негативные последствия. Подобные комментарии были обычным делом: Это создало для меня целую кучу проблем, связанных с доверием, близостью, контролем с другими людьми. Это повлияло на всю мою жизнь. Нет ничего нетронутого.
То, что случилось со мной, изменило меня. Это повлияло на то, насколько хорошо я могу доверять другим людям ... как я отношусь к себе и своей самооценке. Есть уровень стыда ... как бы это сказать? Отвращение к себе? После стольких лет это всегда так. Я не могу вспомнить ни одной области моей жизни, которая не была бы повреждена.
Эти жертвы пострадали точно так же, как и большинство других пострадавших. Они не отличались особой живучестью. На самом деле, любой здравомыслящий человек в этой области предположил бы, что жестокое обращение должно было быть очень травматичным, когда оно произошло. Это была просто моя просьба о том измерении опыта, которое показало, что это не обязательно было так.
Следующий набор объяснений моих данных был направлен не столько на испытуемых, участвовавших в исследовании, сколько на меня. Были ли диагностические интервью и опросники, которые я использовал для оценки психологического ущерба— например, наличия таких расстройств, как депрессия и ПТСР, - действительными? Да, так оно и было. Я использовал только инструменты, широко распространенные в этой области. Был ли я должным образом обучен диагностическому интервьюированию? Да, был. Меня обучали специалисты в Национальном институте Психического здоровья и я прошел диагностическую подготовку.
Занятия по ТРАВМАТИЧЕСКОМУ МИФУ в Гарварде вообще без проблем. Были ли вопросы, которые я использовал, чтобы оценить, насколько травматичным было сексуальное насилие, когда оно произошло, вводящими в заблуждение или предвзятыми? По словам моего советника и коллег из Гарварда, это было не так. В том случае, если мы все были оторваны от реальности, я консультировался с генеральным директором крупной исследовательской компании глобального маркетинга, которая проводила опросы для таких изданий, как журнал Time, о том, имеют ли вопросы смысл. Он считал их ясными и прямыми. В коричневом мешке ведомственного обеда, когда студенты, преподаватели и исследователи собрались вместе, чтобы обсудить свои данные, появилось другое объяснение. Многие из участников обеда пришли из области когнитивной психологии и специализировались на функционировании памяти. Возможно, жертвы не сообщали о своем насилии как о травматическом, потому что не помнили его правильно. Возможно, ретроспективный характер исследования сделал его уязвимым для неточных воспоминаний.
Это было возможно, рассуждал я. Как объясняет заведующий кафедрой психологии Гарварда в своей прекрасно написанной книге "В поисках памяти", наша память системы довольно подвержены ошибкам. Воспоминания подвержены распаду и искажению с течением времени. Детали раннего детского опыта могут быть трудны для запоминания, прямолинейна, и большинство жертв в исследовании вспоминали события, произошедшие десятилетия назад. Но с этим объяснением были проблемы. Специалисты в этой области специально посоветовали мне собрать данные о популяциях взрослых. Почему? Потому что дети редко сообщают о жестоком обращении (подробнее об этом позже), а те, кто это делает, часто испытывают жестокое обращение сильнее нормы, кроме того, у меня не было доказательств, что жертвы помнили неправильно. Как и все остальные. Кроме того, ретроспективные исследования являются наиболее распространенным видом исследований, проводимых в области травматологии. На самом деле диагноз посттравматического стрессового расстройства основывается на воспоминаниях пациентов о прошлом опыте. Если бы мои данные были объяснены как подверженные неточному запоминанию, то травматологи должны были бы объяснить большую часть исследований, проведенных в этой области. Наконец, даже если эта неточная теория памяти была верна и мои жертвы неправильно помнили, что произошло, они должны помнить это как более травмирующее, чем это было на самом деле. Исследования показывают, что люди склонны позволять текущим психологическим состояниям искажать их воспоминания о прошлых событиях. Чем хуже вы чувствуете себя в тот момент, когда кто-то спрашивает вас о предыдущем событии в вашей жизни, тем хуже вы помните прошлое событие. Если люди, с которыми я беседовал, были психологически подавлены в то время, когда я разговаривал с ними (а они определенно были таковыми), можно было бы ожидать, что они, если уж на то пошло, вспомнят жестокое обращение хуже, чем оно было на самом деле. Все больше стремясь понять мои данные, я пригласил всемирно признанного эксперта по психологической травме выступит с докладом в рамках серии статей о ПТСР, которой Я организовывал работу для аспирантов-исследователей в Гарвардскаой медицинскаой школе на миллион долларов.
Вопрос: Почему мои жертвы сексуального насилия не вспоминают свой опыт как травматический? Казалось бы, не смущенный вопросом, он ответил, не сбиваясь с ритма. Это было связано с диссоциацией, теоретическим механизмом защиты сознания (подобным вытеснению) это срабатывает, чтобы помочь жертвам заглушить звук или сбежать от психопата-логическую и физическую боль они испытывают. На простом языке Англичане, как следствие диссоциации, жертвуют “пространством”, их умы “дрейфуют из их тел”, они убаюкивают себя в своего рода “минитрансе”—все способы дистанцироваться от реальности ситуации, с которой они сталкиваются. Короче говоря, согласно этой травме, жертвы, которые говорили со мной, не сообщали о какой — либо травме, потому что насилие было настолько травматичным, что они диссоциировались, когда это происходило, и в результате не могли вспомнить его правильно. Другие слушатели торжественно кивали, когда он излагал свои выводы; они, казалось, были удовлетворены этим объяснением. Но я не чувствовал того же. На самом деле мне было немного не по себе. Возможно, он и другие ученые, которые поддерживали эту теорию, были правы. Возможно, сексуальное насилие было настолько травматичным, что жертвы диссоциировались и таким образом “забывали” о боли. Теория звучала интригующе (это была именно та теория, которая заставила меня захотеть стать психологом в первую очередь), но у жертв было другое объяснение, более простое. Оно мне было очень понятно, что жестокое обращение не было для них травматичным, когда это происходило, потому что они не понимали, что происходит.
ВОТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП науки, называемый бритвой Оккама. Выбирая между двумя конкурирующими объяснениями данных, вы должны выбрать более простое и экономное. Идея состоит в том, что может быть любое количество объяснений явлений, которые вы пытаетесь понять, поэтому, столкнувшись с множеством конкурирующих гипотез, выберите ту, которая вводит наименьшее количество предположений и постулирует наименьшее количество сущностей. Другими словами, при прочих равных условиях самое простое решение обычно является лучшим. Учитывая выбор между сложным, теоретическим, бессознательным защитным механизмом и объяснениями жертв, согласно бритве Оккама, я должен прислушаться к жертвам. Они сказали, что не понимают, что с ними происходит. А если они этого не получат, на каком основании они будут травмированы? На каком основании они будут диссоциировать или подавлять чувство страха? Откуда могло взяться чувство ужаса? Более того, наука, как меня учили, - это разрабатываются теории, которые могут быть фальсифицированы; гипотетически могут появиться данные, которые фактически опровергнут их. Тем не менее, казалось, что предположение о том, что сексуальное насилие является травматичным, само по себе было “неосуществимым".” Все, что говорил виктимы, противоречащее теории травмы, профессионалы в области травматологии переосмысливали, чтобы поддержать ее. Теория не могла быть доказана ошибочной. Оказалось, что жертвы не могут сказать ничего такого, что заставило бы экспертов поверить им.
ОДНАЖДЫ ПОЕЗДОМ ВОЗВРАЩАЮЩИЙСЯ ДОМОЙ со встречи по ПТСР,
В конце концов я понял, что там, возможно, ничего и нет неправильно со мной или моими методами исследования и что я был прав, веря тому, что жертвы, участвовавшие в моем исследовании, помнили и говорили мне. Я не сомневался, что сексуальное насилие связано с психологическим ущербом для взрослых. Тридцать лет серьезных исследований показали, что это так. Я также не сомневался в том, что травматические переживания в целом могут нанести долговременный психологический ущерб. В подтверждение этого были проведены нейробиологические исследования. Однако я задался вопросом, было ли сексуальное насилие обычно травматическим опытом, когда это случилось. Мне нужно было вернуться к книгам. На этот раз вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на том, что должны были сказать эксперты, пришло время сосредоточиться на том, что должны были сказать жертвы.
Каким обычно было сексуальное насилие, когда оно происходило? Учитывая широкое признание предположения о травме в отношении сексуального насилия, можно предположить, что тысячи исследований задавали жертвам этот вопрос. Я обнаружил, что это не так. Как выразился один исследователь, “Систематическое исследование субъективного опыта несовершеннолетних, вовлеченных в сексуальный контакт со взрослыми, контакты как положительного, так и отрицательного качества, как правило, отсутствовали в литературе.” Проведя несколько недель в Medline и Psychinfo (двух наиболее широко используемых базах данных в области психиатрии и психологии), я обнаружил около двадцати опубликованных исследований, проведенных за последние сто лет, в которых жертв конкретно просили описать, каково было их насилие, когда оно произошло.
В своем исследовании 1938 года, посвященном замужним женщинам, когнитивный психолог Льюис Терман спросил, имели ли респонденты сексуальный опыт до пятнадцати лет, который шокировал их или испытывали к ним сильное отвращение, и 32% сказали "да". В другой выборке замужних женщин 24,6 сообщили о “сексуальном шоке” 13.
В 1953 году он подтвердил, что 80% его выборки сказали, что они были эмоционально расстроены или напуганы контактом со взрослыми. В 1956 году Джадсон Лэндис представил данные о семидесяти трех детях “сексуальных отклонений”, направленных на лечение в клинику в Сан-Франциско; 33 процента девочек были напуганы в момент жестокого обращения, 26 процентов мальчиков. В 1991 году Пол Оками, один из немногих исследователей, которые задавали жертвам конкретные вопросы о том, что они чувствовали в момент насилия, обнаружили, что многие жертвы сообщали о двойственных ответах. Например, реакции варьировались от страха до смущения и стыда, до интереса и возбуждения, и часто одна и та же жертва переносила несколько эмоций одновременно. Среди тех, кто оценил этот опыт как 100-процентный негативный (около 40% выборки Оками), сила или насилие присутствовали только в 14,3% этих случаев. Кроме того, наиболее распространенные причины, по которым переживание было негативным, не имели ничего общего со страхом или шоком, но возникла из - за того, что “со мной сделали что - то такое, что мне не понравилось или что я не понял” или “этот опыт сбил меня с толку и заставил встревожиться, потому что я не мог сказать, правильно это или неправильно”.
В национальном выборочном исследовании 1999 года 30% жертв сообщили, что жестокое обращение было пугающим, когда оно происходило. В 2006 Году группа исследователей из Голландского университета Маастрихта спросила жертв сексуального насилия, которые “выздоровели" -"воспоминания об их сексуальном насилии, чтобы ретроспективно оценить эмоции, которые они испытывали во время своего опыта насилия. Около 85% их выборки “не смогли оценить свое жестокое обращение как травматическое в то время, когда оно произошло”.
Вместо того, чтобы просить жертв аспекты ставки травмы, во многих исследованиях их классифицировали как злоупотребления опытом на основе широких категорий, таких как преимущественно положительных (как правило, состоящий из таких слов, как “приятный” “сексуальная” и “волнующий”), преимущественно отрицательного (последовательности, содержащие такие слова, как “стыдно”, - “страшно,” “шокирующий” и “смущающий”), или нейтральный. Чтобы отметить некоторые из этих исследований, психолог Карни Лэндис обнаружил, что 56% жертв в его выборке считали жестокое обращение неприятным или крайне неприятным, но “только в редких случаях оно было травматичным”
Ганьон повторно проанализировал данные из первоначального исследования Кинси и обнаружил, что жертвы могут быть классифицированы на две категории: те, кто считает опыт в основном негативным, и те, кто считает его в основном нейтральным или позитивным. Большинство сообщило, что они отреагировали отрицательно к злоупотреблениям. В широко цитируемом исследовании Дэвида Финкельхора, посвященном жертвам сексуального насилия в Бостоне, жертвы оценивали свой опыт по пятибалльной шкале (от положительного до отрицательного). Средняя оценка была тройка. Он сделан вывод, что “вопреки стереотипу, большинство жертв легко отметить как позитивные, так и негативные элементы опыта”. Диана Рассел-Инал книга - секрет травмы, женщин в Сан-Франциско, злоупотреблениями по пятибалльной шкале в термины, как “расстройство”, они уже не 33 процента - сообщила, что крайне расстроена. В другом ретроспективном исследовании исследователи сообщили, что наиболее распространенной реакцией во время жестокого обращения было “неприятное замешательство” и “смущение”.
Хотя методология этих исследований сильно отличалась с точки зрения задаваемых вопросов и того, как анализировались данные, вывод довольно последователен.
Сексуальное насилие для многих жертв не является травматическим переживанием, когда оно происходит. В то время как большинство сообщают о сексуальном насилии как о негативном опыте, слово “негативный” просто не синонимы ужаса, страха или боли. Как напоминает исследователям клинический психолог Ева Карлсон, чтобы быть классифицированным как травматический, опыт жестокого обращения должен либо включать в себя угрозу смерти, серьезной травмы или вреда, либо, по крайней мере, вызывать такую же подавляющую реакцию страха и беспомощности, как и такие угрозы.
Действительно, в дополнение к исследованиям, которые я выделил выше, Дэвид Финкельхор, директор чрезвычайно влиятельного Центра детской виктимизации и известный исследователь сексуального насилия в Университете Нью - Гэмпшира, утверждает:,
Концептуализация, которая получила наибольшую поддержку, - это идея о том, что воздействие сексуального насилия представляет собой форму посттравматического стрессового расстройства ... но теория, лежащая в основе ПТСР, не легко адаптируется к опыту сексуального насилия. Классическая теория ПТСР утверждает, что симптомы являются результатом “подавляющего события, выражающегося в беспомощности перед лицом невыносимой опасности: тревоги и инстинктивного возбуждения ... Эта теория хорошо подходит для травм, таких как военный шок и изнасилование, и, вероятно, для сексуального насилия, которое происходит при насильственных обстоятельствах. Как когда-либо, много сексуального насилия не происходит в условиях опасности, угрозы и насилия. . . .
Опыт жестокого обращения может быть унизительным и стигматизирующим, но не обязательно пугающим или угрожающим телесной целостности. . . .
Сексуальное насилие не может быть отнесено или объяснено в рамках Посттравматического стресса.
Маргарет Хаган, профессор Бостонского университета, соглашается: “Отсутствие явной травмы, насилия или угрозы и страха во многих случаях должно запрещать использование модели травмы в тех случаях, когда это не так подходит.” Далее она отмечает: “То, что исследование приводит к ”нет", не приводит, однако, исследователей к принятию "нет"в качестве ответа на вопросы об обоснованности модели травмы".
Действительно, многие специалисты, интересующиеся сексуальным насилием, быстро объясняют, что говорят жертвы в исследованиях. В "Тайной травме" Диана Рассел объясняет, почему так мало ее жертв сообщают о травме Бесселю ван дер Кольку, поддерживая защиту отрицания, диссоциации и подавления. Другие просто игнорируют то, что говорят жертвы. В одной из самых широко цитируемых статей в области сексуального насилия, Кэтлин Кендалл-Такет и ее коллеги из Университета. Влиятельный Нью-Хемпшир-исследовательский центр семьи, после ознакомления с общими результатами сорока пяти исследований которые не поддерживают травмы в качестве полезной модели для самых жестоких случаев обращения с детьми, тем не менее подчеркивают, что исследование жертв сексуального насилия “имеет важное значение для других теории и исследования, касающиеся того, как дети травмируются . . . как травма проявляется - этапы развития векселя, [и] его роль в развитии сегодня, эксперты либо неявно, либо явно полагаются на модели стресса и травмы.
Логическая несостоятельность этих моделей, по-видимому, совершенно не имеет отношения к силе, с которой они продолжают держаться.
То, что я ОБНАРУЖИЛ, исследуя этот массив исследований, успокоило меня. Но если учесть все имеющиеся свидетельства, указывающие на то, что сексуальное насилие не было травматическим переживанием, почему модель травмы так доминирует, так укоренилась в изучении этого сексуального преступления?
Одно из объяснений исходит из области детской психологии, от исследователей, изучающих, как обычные дети понимают сексуальную информацию и реагируют на нее. Такие исследователи считают, что профессионалы в области сексуального насилия страдают от взрослой ориентации. ПРЕДВЗЯТОСТЬ; они пытаются понять опыт сексуального насилия, используя взрослую структуру, а не детскую. В своей замечательной книге "Лечение и профилактика сексуального насилия в детстве: Модель, порожденная ребенком" детские клинические психологи Сандра Буркхардт и Антон Ротатори развивают эту идею: “Из-за морально предосудительной природе сексуального насилия над детьми, исследователи имеют понятную тенденцию проецировать свои взрослые страхи, отвращение и ужас на детей — жертв, предполагая, что они реагируют так же, как они реагируют, когда сталкиваются с сексуальными ситуациями.” Их гнев едва сдерживается: “Среди позерства взрослых, взгляды детей редко слышны”, - соглашаются другие исследователи. В спорной главе, озаглавленной “Профессиональная реакция на сексуальное насилие над детьми”, авторы, все уважаемые профессионалы в области сексуального насилия, заключают: “Удивительно, что благонамеренные профессионалы, действующие в интересах детей, предпочли полностью игнорировать детский опыт этих действий”.
Как писали философы науки, хотя предполагается, что ученые основывают свои теории на данных, это не всегда легко сделать. Мы все склонны быть дедуктивистами, а не индуктивистами в нашем подходе к миру. Мы не просто собираем данные и делаем необработанные, непредвзятые выводы; скорее, у нас есть предварительная информация и теории, которые направляют сбор и интерпретацию данных.
Карл Поппер разъясняет эту позицию: “Вера в то, что мы наблюдаем всегда избирательна ...
Для животной точки зрения обеспечивается его потребностями, задачами момента и его ожиданиями; для ученого - его теоретическим интересом, особой исследуемой проблемой, его предположениями и ожиданиями и теориями, которые он принимает как своего рода фон; его системой отсчета, его горизонтом ожиданий”.
Сексуальное насилие—это то, что психолог Стивен Пинкер называет “опасной темой”, которая вызывает болезненные чувства, сильные эмоции у людей, которые вынуждены об этом думать. В тисках таких эмоций многим людям (даже подготовленным ученым) трудно мыслить ясно. Наш “горизонт ожиданий”, вероятно, подвержен сильному влиянию морального и даже психологического отвращения, которое многие из нас испытывают, когда думают о взрослых, использующих невинных детей в сексуальных целях. Мы проецируем эти чувства на жертв и предполагаем, что они видят мир таким же образом. Как показывает нам область детского познания, начиная, по крайней мере, с Жана Пиаже в середине двадцатого века, это несправедливо по отношению к ребенку. Дети думают и рассуждают не так, как взрослые; скорее, их мышление и рассуждения о себе, других людях и окружающем мире разворачивается со временем и через опыт. Когда дело доходит до секса, они не понимают полного значения сексуальной активности и поведения до позднего детства, обычно непосредственно перед ранними стадиями подросткового возраста. До тех пор дети имеют лишь смутное представление о сексуальности взрослых. В силу своего возраста и уровня развития они когнитивно не способны постичь смысл полового акта. Они не могут понять секс или сексуально окрашенные встречи, как взрослые. Как говорит Дэвид Финкельхор: “То, что может показаться ужасным нарушением социальных табу с точки зрения взрослого, не обязательно должно быть таковым для ребенка. Сексуальный опыт со взрослым может быть вещь необычная, довольно неприятная, даже болезненная в тот момент, но не страшилка”, короче, потому что у детей очень аморфное представление о том, что секс, они, скорее всего, не признавют сексуальных действий и намерений со стороны других или их интерпретировать как что-то еще. Джон Конте и Люси Берлинер, эксперт по сексуальному насилию, работающий в Центре сексуального насилия в медицинском центре Харборвью в Сиэтле, явно поддерживает эту точку зрения. В статье, озаглавленной “Процесс виктимизации: взгляд жертв”, они отмечают, что большинство жертв сексуального насилия, которых они изучали, не знали, что они подвергались сексуальному насилию в то время когда насилие происходило. Точно так же, как и субъекты, которые говорили со мной, жертвы делали такие заявления, как “Я не знал, что что - то не так с ним, потому что я не знал, что это было оскорбление, пока позже. Я думала, он проявляет ко мне нежность”.
Несколько лет назад исследователи из известной сиэтлской клиники для жертв сексуального насилия опросили детей, чье насилие привлекло внимание чиновников по вопросам психического здоровья (и поэтому, скорее всего, представляло собой случаи экс-трема). Они попросили этих детей описать случившееся своими словами. Их душераздирающие ответы подтверждают то, что я исследовал выше. Дети этого не понимают. Вот некоторые из их комментариев:
У него был хвост ... Он вырос ... Он пытался воткнуть его в меня.
Мой брат делает плохие вещи ... Он делает непослушные вещи со мной ... Он что-то делает, но я не знаю, что это (ребенок указывает на свою вагину).
Мой брат засунул свой хвост мне в задницу и попросил пососать его. Это должен быть секрет. Мне не нравится его вкус, но я не хотела, чтобы мой брат злился на меня.
Как я уже говорил ранее, хотя дети-жертвы часто демонстрируют недостаток знаний о точной природе переживаний, с которыми они сталкиваются, многие могут чувствовать, что они ошибаются. Вот как Росс Чит, Профессор университета, подвергшийся сексуальному насилию в конце 1960-х годов, описал это так: “Концепция травмы никогда не казалась мне правильной. Это никак не укладывалось в мою историю ... Не было никаких угроз.
Я никогда не чувствовал опасности. Я не боялась его. Он был добр ко мне. Что-то не сходилось-и это постепенно начинало беспокоить меня все больше и больше ... Я знала, что меня "имели", так сказать, но я не могла понять этого”.
Двадцать лет назад Леда Космидес была одной из первых, кто постулировал, что у людей есть естественно развитый ментальный механизм, предназначенный для обнаружения мошенников, встроенного способа обнаружить, когда люди лгут или предают нас. Согласно ее теории, способность быстро и точно рассуждать о социальных контрактах могла дать нашему виду некоторое эволюционное преимущество; это было важно для выживания и репродуктивной приспособленности. Последующие исследования не только подтверждают идею о существовании такого эволюционно - адаптивного фактора обмана у человека, но и предполагают, что мы обнаруживаем его проявление на ранних стадиях жизни. Как может засвидетельствовать любой, кто провел много времени с маленьким ребенком, крик “Это нечестно!” - часто слышится и довольно точно. Как вид, мы, по-видимому, очень чувствительны к предательству, даже когда не можем точно определить его. Ребенок часто может чувствовать, что жестокое обращение неправильно, потому что преступник каким-то образом сообщает, что то, что происходит, плохо (предупреждая ребенка, чтобы он никому не говорил, убеждаясь, что насилие совершается скрытно, или реагируя со страхом, если кто-то видит их вместе).
Знания детей о сексе зависят от уровня их когнитивного развития. Если мы можем принять это, то мы должны быть в состоянии принять и их поведение. Поначалу я был шокирован тем, как часто жертвы рассказывали мне, что они участвовали в насилии, что они соглашались с ним, и что они не боролись с ним или не переносили его. Но историческая литература явно вникала в это явление очень подробно. Еще в 1907 году Карл Абрахам отметил, что жертвы сексуального насилия, по-видимому, делятся на две отдельные категории. Первую группу он назвал “случайными жертвами".” То насилие является насильственным, оно обычно проводится незнакомым человеком, и жертва четко осознает, что это неправильно. Он или она резко и негативно реагирует на правонарушение и незамедлительно сообщает об этом. Сегодня вместо “случайного” я мог бы назвать этот вид насилия “травматическим".”
Вторую группу Абрахам обозначил как “жертвы-участники".” В этой категории насилие не является насильственным, а Жертва знает преступника, не понимает, что происходит, часто имеет более чем один опыт общения с обидчиком, держит жестокое обращение в секрете, а ниногда получает какое-то вознаграждение от обидчика.
Исходя из обзора исследования, жертва-участник является, безусловно, более распространенным типом. В 1977 году Джудит Герман и Линда Хиршман опубликовали клиническое исследование взрослых женщин - подростков, которых в детстве домогались отцы. В то время как авторы были на 100% уверены в том, что переживания были неправильными, разрушительными и преступными по своей природе, они также были совершенно уверены в том, что, хотя “большинство участников исследования пережили сексуальный контакт”, в “изменении " они получили особое отношение от отца и чувство власти и удовлетворения в вытеснении матери.” Авторы предположили, что тот факт, что такие переживания имели место, был функцией “эмоциональной депрессии” в историях жертв. По мнению специалистов в области детского познания, не стоит удивляться, что молодые люди “допускают” жестокое обращение. Дети не только не понимают всего смысла и последствий своих действий, но и биологически и психологически обусловлены желанием и потребностью в самых элементарных вещах: любви, внимании, положительной обратной связи и вознаграждении. И это именно то, из чего состоят преступники. Как красноречиво отмечает Люси Берлинер, “распространенный метод принуждения, используемый преступниками, включает в себя эксплуатацию нормальной потребности ребенка чувствовать себя любимым, ценным и заботливым со стороны родителей. Дети, у которых эти потребности не удовлетворены, могут быть восприимчивы к проявлениям сексуального насилия”. Как выразилась одна из жертв, которую она изучала: “Я думаю, это произошло потому, что Я так нуждался, потому что у меня ничего не было”.
Рассмотрим описание Майей Анжелу ее собственный рассказа о сексуальном насилии в книге. Я знаю почему птица в клетке поет. С душераздирающей честностью она описывает свою детскую тоску по любви, которая заставила ее искать внимания бойфренда матери. - Я начала чувствовать себя одинокой из-за мистера Фримена и его огромных рук. Раньше моим миром были Бейли, еда, мама, магазин, чтение книг и дядя Вилли. Так вот, впервые это включало в себя физический контакт, - мистер Фримен воспользовался ее вниманием.
Я подошла к нему и быстро села к нему на колени. Сначала мистер Фримен сидел неподвижно, не обнимая меня, а потом … Я почувствовал, как мягкая шишка под моим бедром начала двигаться. Он дернулся и начал твердеть. Потом он притянул меня к своей груди ... Все это время он толкал меня на коленях, потом вдруг встал, и я соскользнула на пол. Он побежал в ванную.” Она ясно изображает огромную пропасть в намерениях о взаимопонимании между взрослым и ребенком: “От него пахло пылью и жиром, и он был так близко, что я уткнулась лицом в его рубашку и слушала его сердце, оно билось только для меня...”
Дети подчиняются, и ожидать от них иного просто нереально. Еще в 1956 году Джадсон Лэндис описал ситуацию, в котором взрослый друг семьи надругался над молодой девушкой. В “ошеломленном и шокированном” состоянии она согласилась. Он не только не осуждал ее, но и понимал. По его собственным словам, “Это нетрудно понять. Этот мужчина был хорошим другом семьи, и предыдущий опыт приучил девушку к тому, чтобы она принимала его. Только ребенок чрезвычайно бдительный и быстрое восприятие, ведущее к действию, могли бы оценить подход и немедленно изменить его”. Многие современные детские психологи согласились бы с этим. Он, конечно, ожидал бы многого от ребенка, что он будет сопротивляться в таких обстоятельствах. Ответственность за эти преступления на 100 процентов ложится на виновного. В отличие от ребенка, преступник полностью понимает, что происходит, он знает, что это неправильно (по крайней мере, по социальным стандартам, если нет своих), и он решает сделать это в любом случае. Хотя это редко выражается в таких грубых выражениях, он решает, что его собственные сексуальные потребности и желания важнее, чем приличия, правила, предписания, общая мораль или благополучие ребенка.
Кроме того, тот факт, что дети не могут понять или адекватно реагировать на секс, является причиной того, что с юридической точки зрения дети не могут технически согласиться на секс со взрослыми. Для того чтобы согласие действительно имело место, должны преобладать два условия: ребенок должен знать, на что он согласен, и иметь свободу сказать " да " или "нет".
Проблема в том, что большинство людей не живут в зале суда. Мы живем в реальном мире, и с точки зрения детей - жертв, они соглашаются. Они редко возрожают, бегут, зовут на помощь или сообщи о преступнике. Будучи взрослыми, мы не можем винить их за выбор, который они делают. Многие из нас, особенно родители, могут не захотеть учитывать, что наши дети могут быть смущены и восприимчивы к сексуальным домогательствам со стороны взрослых.
Мы можем отреагировать отрицанием (невозможно!) или возмущением (как вы можете говорить такие вещи!). Но ради наших детей мы должны преодолеть обе реакции. Виновники преступлений хорошо осознают уязвимость детей; они прекрасно понимают, что дети не получат ее, что они могут предложить, сбитые с толку, невинные дети, определенные вещи в обмен на секс. Как маленький, но последовательный (и очень пугающий) совокупность свидетельств показывает, что преступники специально ищут и ухаживают за детьми, которые могут быть особенно уязвимы для жестокого обращения - например, за теми, кто лишен родительской поддержки или кажется эмоционально или физически заброшенным.
НАЧАЛО МОИХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
Я считал, что сексуальное насилие обычно было насильственным, что-то явно совершенное против воли испуганного ребенка. Я также считал, что именно поэтому так много жертв были психологически поврежденные позже в жизни и почему многие забывали о своем злоупотреблении в течение длительного времени. Годы спустя я пришел к совершенно иной точке зрения. Очевидно, что есть что-то очень неправильное в концепции травматического стресса сексуального насилия, которая была столь доминирующей в этой области. Карл Саган, человек, который знал, как сделать науку доступной практически для всех, сказал, что ученые десятки лет совершают ошибки, но этого следует ожидать и быть готовыми. Наука имеет встроенный механизм проверки фактов. Независимо от того, насколько увлечены ученые, независимо от того, насколько сильно теория была внедрена в культурный дух времени, мы всегда должны быть готовы отказаться от нее перед лицом сильных и существенных противоречивых доказательств. Наука в конечном счете направлена на поиск истины, и именно так возникают более надежные теории. Я верил в свои научные идеалы и решил опубликовать свои исследования.
Политика и Сексуальное насилие
Когда я ТОЛЬКО НАЧАЛ свою дипломную работу в Гарварде, один уважаемый психиатр из Гарвардской медицинской школы дал мне несколько советов. Он сказал мне, что я должен избегать изучения сексуального насилия. Это было слишком спорно, слишком чувствительно и слишком политизировано. Он сказал, что пропаганда всегда перевешивает правду, а эмоции всегда перевешивают данные. Тогда я торжественно кивнул, гадая, к чему он клонит. Как только я опубликовал свое исследование, оно обрело смысл. Весь ад вырвался на свободу. Меня засыпали обвинениями в том, что я причиняю жертвам боль даже больше, чем у них уже была и то, что я дружу с педофилами.
Меня также поносили многие в моем собственном научном сообществе. Некоторые коллеги и аспиранты перестали со мной разговаривать. Благонамеренный профессор посоветовал мне выбрать другую тему исследования, потому что я собирался исключить себя из работы в академических кругах. Некоторые считали, что мои исследования имеют политическую подоплеку, а другие-предвзятое отношение к жертвам. Меня пригласили выступить с докладом о моих исследованиях в Кембридже —дом чрезвычайно влиятельной программы лечения жертв сексуального насилия. Никто из программы не появился.
К сожалению, когда люди слышали “не травматично, когда это происходит”, они переводили мои слова как “это не вредит жертвам позже”.
Такие реакции не имели смысла. Я никогда не задавался вопросом, причиняет ли сексуальное насилие боль жертвам. На самом деле я провел годы, слушая душераздирающие истории о том, как эти детские переживания оставили неизгладимый отпечаток на их жизни, отношениях и самоощущении. Я никогда не предполагал, что сексуальное насилие не является преступлением; с моей точки зрения, оно, несомненно, было предосудительным. И как я обсуждаемый в предыдущей главе, я не мог бы быть более ясным, что жертвы не виноваты. В прямой противоположности тому, во что многие верили, смысл моего исследования состоял не в том, чтобы свести к минимуму вред, причиняемый злоупотреблением, а в том, чтобы подвергнуть сомнению наши предположения, в чем на самом деле заключается причина этого вреда. Но мои объяснения остались без внимания.
Разве я не знал, спросил меня тогда репортер, что предположение о сексуальном насилии часто не является ужасным опытом для жертв, что многие подчиняются просьбам преступника и редко сопротивляются насилию, когда оно происходит? бывает, меня бы распяли? Подразумевалось, что я был наивен. Возможно, так оно и было. Я был настолько увлечен тем, почему популярная научная теория ошибочна, что упустил из виду, возможно, более важный вопрос: Почему так много хорошо подготовленных и преданных своему делу профессионалов считают, что это правильно?
Как и почему модель травмы стала центральной интерпретирующей парадигмой для понимания долгосрочных последствий сексуального насилия в детстве? По мнению таких ученых, как Иэн Хакинг, Джозеф Дэвис и Аллан Янг, ответ на этот вопрос потребовал бы социальный конструкционистский подход. Я должен был бы отказаться от идеи, что научное знание существует априори, в чистом виде, просто ожидая, чтобы его открыли не предвзятые профессионалы, приверженные истине. Вместо этого я должен был бы признать, что научные теории часто возникают в результате сложного и интерактивного процесса, согласованного профессионалами, открытие и интерпретация которых неизбежно зависят от социальных, культурных и социальных факторов, политические рамки, в которые они встроены.
Как Ян Хакинг объясняет, что основная идея социальной аферы- структуралистский подход состоит в том, чтобы бросить вызов “взятой за данность” существующей теории, “разоблачить ее” и показать ее “внетеоретическую функцию".”
Короче говоря, пришло время перестать сосредотачиваться на том факте, что теория травмы ошибочна. Вместо этого мне нужно было сосредоточиться на социальных, культурных и политических силах, которые породили эту теорию, и на целях, которым она служила для тех, кто ее продвигал и узаконивал.
Как я уже говорил во введении, травматическая концепция сексуального насилия над детьми возникла в начале 1980-х годов. Какие профессиональные теории и подходы, что сексуальное насилие над детьми существовало до этого? Достигнув совершеннолетия в то время, когда большинство специалистов в области психического здоровья признавали, что сексуальное насилие является распространенной и вредной формой виктимизации, я был потрясен тем, что нашел в исторической литературе, ведущей к этому моменту. На протяжении большей части XX века многие специалисты в области психического здоровья считали иначе. Сексуальное насилие, особенно совершаемое людьми, считалось редкостью. По словам одного широко читаемого ученого Карин Мейзельман, сексуальное насилие “квалифицируется как относительно редкое событие, гораздо более редкое чем большинство других форм стигматизированного сексуального поведения”.
Клиницисты, по-видимому, сталкивались с несколькими случаями. В 1960 году сообщилось, что “довольно редко можно встретить реальный, поддающийся проверке клинический пример”. Еще в 1975 году стандартный учебник по психиатрии оценивал эту частоту как один случай на миллион. Поскольку до работы Кинси в конце 1950-х годов не существовало никаких крупномасштабных исследований распространенности сексуального насилия, и это исследование ясно не указывало на то, что сексуальное насилие не было или было редкостью, трудно понять, где были предположения и из чего исходили. Некоторые считают, что это во многом связано с Зигмундом Фрейдом и его влиянием на область психиатрии.
В конце 1800-х годов Фрейд столкнулся с рядом пациентов, которые сообщили, что в детстве они имели сексуальные контакты со взрослыми, почти всегда членами семьи. Поначалу Фрейд верил своим пациентам. Мало того, в 1896 году, опубликовав свою классическую работу “Этиология истерии”, он предположил, что сексуальное насилие, которое они испытали, вызвало невроз (в широком смысле-психологическое расстройство)- стресс и проблемы), которые привели их в его офис в первую очередь.
Но Фрейд быстро передумал. В 1897 году в письме своему доверенному лицу Вильгельму Флиссу он объяснял: “Вряд ли можно было поверить, что извращенные действия против детей по причинам, широко (и остро) обсуждаемым учеными в области психического здоровья, он впоследствии пришел к выводу, что его пациенты фактически сфабриковали переживания жестокого обращения, о которых они сообщали. Согласно его пересмотренной теории, психические симптомы и проблемы его пациентов не были вызваны действиями, а были детскими сексуальными фантазиями.“
В конце концов я был вынужден осознать, что эти сообщения не соответствуют действительности, и поэтому пришел к пониманию того, что истерические симптомы происходят из фантазий, а не из реальных событий”. Что побудило его пациентов заниматься такой фабрикацией? Согласно Фрейду, они “не смогли разрешить эдипову ситуацию”— перенести свое сексуальное желание с родителей на более социально приемлемые источники.
Многие ученые утверждают, что наследие Фрейда, посвященное теме сексуального насилия, многие специалисты в этой области придерживаются предубеждения, что жертвы лгут о своем сексуальном насилии. Например, рассмотрим Трактат Джона Генри Уигмора о доказательствах, один из самых читаемых и цитируемых юридических текстов в стране. Он специально предупреждает, что “женщины и девушки склонны выдвигать ложные обвинения против мужчин с хорошим характером” и что “эти обвинения могут убедить ничего не подозревающих судей и присяжных.” Поэтому он рекомендует, чтобы “любая женщина - заявитель была подвергнута психиатрическому обследованию для определения ее достоверности”.
Хотя некоторые медицинские работники признали, что сексуальное насилие существует и, возможно, является более распространенным явлением, чем многие думали, они быстро отвергли эти случаи как безвредные для жертв; большинство преступлений сексуального насилия считались незначительными и недолговечными. Почему? По одной главной причине: потому что, как я уже говорил, жертвы сообщали, что сила или насилие редко имели место и что редко случались какие-либо значимые с медицинской точки зрения физические травмы. Как выразился в 1965 году Джон Ганьон, один из ведущих экспертов, “Основная масса случаев сексуального насилия будет минимальной по своему характеру ...
Сумма ущерба—если таковая имеется-ограничен.” Текст в соавторстве с С. Генри Кемп, всемирно известный эксперт жестокого обращения с детьми, в 1978 году утверждал, что “сама сексуальная назойливость мало вреда для здоровых детей”. Консенсус среди большинства специалистов, что большинство этих правонарушений были по существу “неприятность переживания” и редко связаны с применением угрозы физической силой. Как пишет ученый Филип Дженкинс, “Восприятие растления малолетних было столь же безобидным, сколь угрожающим является современный образ”. Вера в то, что сексуальное насилие не причиняет вреда жертвам было настолько широко распространено, что на протяжении большей части XX века термин "сексуальное насилие" даже не существовал. Когда в криминальной и судебной системах появлялись случаи, когда взрослые занимались сексом с детьми, их часто называли “сексуальными преступлениями” против детей.
В случае жертв насилия, и сообщали, что они были повреждены психологически, было отмечено, что это повреждения, вероятно, уже к имевшимся злоупотреблениям, что потерпевший “уже есть предрасположенность к неврозу или психозу позже”. В некоторых случаях эксперты даже подозревают, что у любых жертв могут быть психологические проблемы позже, для чего они были использованы в первую очередь. Почему?
Опять же, по тем же самым причинам, которые я обсуждал ранее: потому что жертвы сообщали, что они часто были вовлечены в насилие в том смысле, что они не сопротивлялись ему когда это произошло или сообщали об этом позже.
Хотя, как обсуждалось ранее, есть прекрасные причины, почему это так - в частности, потому, что дети в своем развитии неспособны понимать или адекватно реагировать на сексуально окрашенные встречи,—профессионалы в то время пришли к совершенно другому выводу. Они истолковывали уступчивость жертв как доказательство того, что жестокое обращение было в некотором роде виной ребенка. В качестве примера такого несовершенного мышления можно привести Карла Абрахама, влиятельного последователя Фрейда, который одним из первых отметил (правильно) что подвергшиеся насилию дети редко сопротивляются сексуальному действию, совершаемых против них, пришла к выводу, основанному на наблюдениях, что с ними должно быть что-то не так, что они были предрасположены к своему собственному насилию, что они “поддались” сексуальному насилию. “Сама жертва бессознательно также может искушать... Мы иногда находим эту соблазнительную склонность даже в молодых девушках, в их кокетливости ... таким образом, более или менее бессознательно подвергая себя сексуальным атакам”.
Детский психиатр и один из первых, кто исследовал сексуальные контакты между взрослыми и детьми, обнаружил, что все жертвы, с которыми она беседовала, были “необычайно привлекательными” детьми, которые делали соблазнительные предложения психиатрам. Она называла их “сексуальными преступниками” и далее отмечала, что “не удивительно, что мы часто рассматривали возможность того, что ребенок мог быть настоящим соблазнителем, а не тем, кого соблазняли”.
Перекликаясь с темой обвинений жертв, широко читавшаяся в 1970 году книга по сексуальному воспитанию утверждала: неопровержимый факт, который некоторым из нас очень трудно принять, что в некоторых случаях не человек инициирует неприятности. Роман "Лолита" ... описывает то, что вполне может произойти. Девочка 12 лет или около того в значительной степени наделена большим сексуальным желанием и также может гордиться своими” завоеваниями", “она - искусительница, а не мужчина”. На самом деле, между 1930 и 1970 годами литература изобиловала примерами “соблазнительных детей” или “патологически нуждающихся” детей. Короче говоря, основываясь на их наблюдениях поскольку дети редко сопротивляются сексуальному насилию, специалисты пришли к выводу, что в этом виноваты дети. Как писал в 1954 году Бенджамин Карпман, “Как правило, тот факт, что конкретная девушка является жертвой, не является случайностью: в ее происхождении, личности или семейной ситуации есть что-то, что предрасполагает ее к участию”.
Представьте себе, что всего сорок лет назад одиннадцатилетняя девочка предстала перед судом по делам несовершеннолетних за то, что вступила в половую связь с шестидесятилетним мужчиной, который представился ей в парке. Этот человек был. Судя по стенограммам судебного процесса, ясно, что она считалась преступницей; она была виновницей инцидента, и любой возможный вред, который она могла понести, был тривиален по сравнению с ее моральной испорченностью. Профессиональный вывод на протяжении большей части XX века был последовательным и ясным. Когда виктим сообщал о сексуальном насилии, реакция включала недоверие, вину и минимизацию. Как резюмировала одна ученая, Эрна Олафсон, “На протяжении большей части 20-го века, когда дети - жертвы не считались лжецами, их считали сексуальными преступниками. Когда мужчина совершал сексуальное насилие над ребенком, именно жертва, а не преступник обвинялся и привлекался к ответственности за это преступление”.
Профессиональные представления о сексуальном насилии над детьми начали меняться в 1960-х годах. Первоначально эти изменения возглавляли члены движения в защиту детей. В 1962 году доктор Генри Кемпе опубликовал книгу “Избитое дитя". Синдром”, отчет о общенациональном опросе, посвященном симптомам у маленьких детей, которые были повторно физически травмированы своими опекунами, в престижном журнале Американской медицинской ассоциации.
В редакционной статье, сопровождавшей статью, он призвал врачей сообщать о подозрениях в жестоком обращении и предположил, что больше детей может умереть от побоев от рук родителей или опекунов, чем от таких заболеваний, как лейкемия, кистозный фиброз или мышечная дистрофия. Этот документ привлек всеобщее внимание на национальном уровне к проблеме физического насилия над детьми (и в период с 1963 по 1968 год каждый штат принял закон, требующий сообщать о жестоком обращении с детьми).
Это также стимулировало исследования по всем формам жестокого обращения с детьми, включая сексуальное.
Согласно результатам двух финансируемых из федерального бюджета исследований, заказанных для изучения этой темы в конце 1960-х годов, сексуальное насилие было обычным явлением; гораздо более поздняя презентация о жестоком обращении существовала раньше, чем считалось. На самом деле, Винсент Де Фрэнсис, автор одного из исследований,
экстраполируя количество найденных случаев, предположил, что результаты “разрушили общепринятое мнение” о том, что сексуальное насилие было редкостью. Он также отметил, что большинство преступлений совершали не “чужие извращенцы”, а взрослые, знакомые ребенку. Не только было такое насилие обычно, в ошеломляющем контрасте с тем, во что верило большинство профессионалов, он теоретизировал, что “опасности и долгосрочный ущерб” для детей, подвергшихся насилию, были “серьезны и сравнимы с ущербом, причиненным при избиении детей.” Он призвал к скоординированной атаке на эту проблему. Примерно в то же время появилась вторая группа-феминистки, выступавшие за проблему сексуального насилия над детьми. В "Диалектике секса" один из основателей Нью-Йоркской.
Радикальные феминистки, Шуламит Файерстоун, призывали феминисток сделать проблему сексуального насилия над детьми частью своего анализа и “думать об освобождении детей от угнетения мужчин как связанного с освобождением женщин”, чтобы рассматривать его как часть более широкого порабощения женщин в обществе, где доминируют мужчины.
Что касается профессиональных предположений о нечастости, безвредности и ответственности жертв, то феминистки были возмущены. В чрезвычайно влиятельной статье под названием “Фрейдистское прикрытие”,-писала Флоренс Раш, ведущая феминистка того времени. Каковы могут быть последствия такого мышления ? Он категорически приписывает реальный опыт фантазии или, в лучшем случае, безвредной реальности, в то время как известный преступник—единственная конкретная реальность— игнорируется ... Жертва оказывается в ловушке паутины взрослых предположений и получает не защиту, а лечение от какой—то спекулятивной болезни, в то время как преступник—дядя Вилли, продавец бакалейной лавки, дантист или отец ребенка - получает возможность еще больше потакать своему пристрастию к маленьким девочкам. Переживание ребенка так же страшно, как самый страшный кошмар Кафки: ее рассказу не верят, ее объявляют больной, и, что еще хуже, ее оставляют на милость и “благосклонность” психиатрически ориентированных “детских экспертов”.
Действительно, феминистки обвиняли специалистов в области психического здоровья не только в сокрытии доказательств жестокого обращения с детьми со стороны мужчин (существовал “заговор молчания”), но и в смещении вины на мужчин. По мнению феминисток, их теории " окружены научными Аурами", позволяла систематически подавлять и поддерживать сексуальную эксплуатацию детей.
17 апреля 1971 года Флоренс Раш поднялась на трибуну первой конференции радикальных феминисток Нью-Йорка, посвященной проблеме изнасилования не взрослых, а детей. Во время выступления она процитировала результаты прошлых исследований по сексуальному насилию и заявила, что почти все существующие исследования по этому вопросу должны быть отброшены; они были предвзятыми и ошибочными, проводимыми мужчинами, стремящимися скрыть и продолжить свою сексуальную агрессию против девочек. В конце своего выступления она крикнула собравшимся, что необходим новый подход к сексуальному насилию, “новое отношение—такое, которое признает вред, причиняемый сексуальным насилием, и не обвиняет жертв”.
Что касается такого подхода, то семейные системы в 1970-х годах отстаивали то, что они называли экологической моделью для понимания сексуального насилия над детьми. Хотя они согласились с феминистками в том, что дети — жертвы не виноваты, они признали выводы, свидетельствующие о том, что дети часто были соучастниками жестокого обращения.
Такое поведение понималось как часть дисфункциональной межличностной динамики, проявляемой всей семьей (включая вступившую в сговор жену). Злоупотребление, согласие в соответствии с семейным системным подходом возникла потому, что она удовлетворяла взаимные дисфункциональные потребности внутри семьи.
Феминистки решительно отвергли этот подход. В рамках своей повестки дня они отвергли любое внимание к жертвам, поведение, рассматривая его как разбавление фокуса на взмах крыльев. Короче говоря, по мнению феминисток, преступник всегда на 100 процентов виновен в своем поведении; они критиковали любые исследования или теории, которые предполагали обратное (например, исследования, подчеркивающие тот факт, что дети иногда подчиняются и/или редко сопротивляются их насилию), как негативно предвзятые. Одна феминистка подытожила: “Важно не забывать, кто ублюдок”.
Феминистки, участвовавшие в этом крестовом походе, должны были преодолеть интересную проблему: как объяснить тот факт, что сами жертвы говорили, что они редко сопротивлялись насилию, что они часто участвовали, и что большинство предпочли не сообщать о том, что произошло, и молчали о своем опыте? Феминистское решение состояло в том, чтобы осмыслить сексуальное насилие как насильственное преступление, относиться к сексуальному насилию так же, как они относились к изнасилованию. Как объясняет Джудит Герман в своей широко известной книге “Травма и повторное прикрытие", " Феминистское движение предложило новый язык для понимания последствий сексуального насилия. . . .
Феминистки переосмыслили изнасилование как преступление насилия, а не половой акт”. Как говорит сама Герман, эта “упрощенная формулировка” была выдвинута для того, чтобы опровергнуть мнение о том, что изнасилование или сексуальное насилие над детьми в любом случае являются виной жертв. Феминистки также определяли изнасилование как метод мужского политического контроля, принуждающий женщин к подчинению посредством террора. Короче говоря, изнасилование было исходной парадигмой феминистского движения, на основе которой формировались представления о сексуальном насилии над детьми. Как Сьюзен Браунмиллер заявила в книге “Против нашей воли”: "Несвятое молчание, окутывающее межсемейное сексуальное насилие над детьми и препятствующее реалистичной оценке его истинного значения, коренится в той же патриархальной философии сексуальной частной собственности, которая сформировала и определила историческое отношение мужчин к изнасилованию".
Обрамление сексуального насилия как насильственного преступления отражало все характеристики жертвы и обстоятельства жертвы, за исключением уязвимости, безразличны. Жертвы ни в коем случае не причастны к совершению преступлений против них. Преступники ни в коем случае не освобождаются от своих преступлений. Вина как за изнасилование, так и за сексуальное насилие имеет прямое отношение к офендеру и патриархальному обществу, которое его создало.
СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО относится к той же категории преступлений, что и насильственное изнасилование? Судя по тому, что говорили жертвы, не совсем. Она гораздо сложнее и многограннее. Но, как заметил социолог Джоэл Бест, такое “расширение домена” имеет важные риторические преимущества, позволяя “создателям претензий” строить новые претензии на устоявшемся фундаменте, откладывать споры по периферийным вопросам и стимулировать профессиональное и общественное внимание к этой теме. Вскоре последовало общественное и профессиональное внимание.
С середины 1970-х годов тема сексуального насилия была поставлена на повестку дня как движения в защиту детей, так и феминистского движения. Начали поступать федеральные деньги, участились демонстрации жестокого обращения с детьми и безнадзорности, стали выдаваться исследовательские гранты, возросли усилия организаций социального обеспечения (например, создание горячих линий по вопросам жестокого обращения с детьми). Такие инициативы привлекали все большее число специалистов в сферу “жестокого обращения с детьми и их защиты".” Новый журнал под названием Child Жестокое обращение и пренебрежение были начаты в 1976 году и стали важным источником статей о сексуальном насилии. Затем последовала агитация средств массовой информации. В 1977 году широко цитировалась и распространялась взрывоопасная статья Эллен Вебер” Инцест: сексуальное насилие начинается дома". Статья захватила и популяризировала растущию профессиональную убежденность в том, что сексуальное насилие широко распространено в американском обществе, что оно происходит в семьях любого социального, экономического и этнического происхождения и что эта тема практически игнорируется, несмотря на то, что “многие профессионалы” видели корреляцию между сексуальным насилием и множеством психологических симптомов и расстройств у взрослых. В период с 1978 по 1982 год появилось не менее дюжины широко разрекламированных книг на тему сексуального насилия - около половины из них были написаны жертвами от первого лица. Помимо книг, было много фильмов, крупных сетевых телевизионных документальных фильмов, и газетные статьи на эту тему. Результаты опроса показывают, что к 1980 году большинство американцев сообщили, что видели обсуждение этой проблемы в средствах массовой информации. Профессиональное и общественное внимание, которое привлекло сексуальное насилие, было беспрецедентным. Оно не только представляла собой массовый количественный рост по сравнению с прошлым, но и в совокупности означала полный и тотальный разрыв с теоретической ориентацией, которая характеризовала более раннее развитие. Это была новая перспектива, ориентированная на вред и невиновность жертвы, которая развивалась не как ответная реакция на какие - либо твердые данные, а из-за политики. На самом деле, по настоянию феминисток, все существующие научные исследования о негармонической природе сексуального или насилия над жертвами участников была либо отброшена, либо проигнорирована, выброшена не по методологическим, а по моральным соображениям. Предполагалось, что оно “предвзято по отношению к жертвам” и даже “проводится мужчинами-профессионалами, приверженными систематическому отрицанию и подавлению сексуального насилия".” Совокупность исследований, которые впоследствии появились, чтобы занять его место, эффективно стерла прошлое. Новый акцент был сделан на насилии, силе и психологическом вреде.
Первая волна исследований, проведенных между серединой 1970-х и серединой 1980-х годов, включала демонстрацию того, насколько разрушительным было сексуальное насилие. То, что произошло, было “этапом каталогизации” всех психологических симптомов и проблем, о которых жертвы сообщали впоследствии. Их было множество, начиная от расстройств настроения и заканчивая отношениями и сексуальными проблемами, расстройствами питания, членовредительством, алкоголизмом и наркоманией и заканчивая психозами. Эти длинные списки симптомов использовались для оправдания более профессионального интереса, финансирования исследований и страхового покрытия лечения. В соответствии с новыми теориями эти исследования предполагали, что сексуальное насилие непосредственно вызывало эти проблемы, но, как часто отмечали сами психологи, это еще не было доказано. По мнению двух влиятельных исследователей того времени, Анджела Браун и Дэвид Финкельхор, хотя и жертвы сообщали о широком разнообразии последствий, включая депрессию, тревогу, чувство изоляции и стигматизации, низкую самооценку, тенденцию к ревиктимизации, трудности в доверии другим, злоупотребление психоактивными веществами и формы сексуальной дезадаптации, что насилие было их непосредственным источником.
Одна из первых аксиом, которую изучают студенты, изучающие статистику, заключается в том, что корреляция не предполагает причинно-следственной связи. Было установлено, что сексуальное насилие в детстве (А) и психологические проблемы (Б) связаны между собой. Феминистки, защитники детей и многие профессионалы были убеждены, что это причина Б., Как профессионалы, в прошлом поверили в себя, вполне возможно, что причины Б и А. Кроме того, он также возможно, что какой-то другой фактор (С) что было не изучено (например, детство безнадзорности или семейные дисфункции) была причинно-следственная связь между обоими. Феминистки, сторонники защиты детей и другие группы, приверженные оказанию помощи жертвам, хотели, в идеале, найти прямую связь между жестоким обращением и психологическими проблемами. Таким образом, можно было бы окончательно доказать, что сексуальное насилие вредно, и, в отличие от прошлых убеждений профессионалов, жертва ни в чем не виновата. Это можно было бы сделать, если бы можно четко определить точную причину вреда (“механизм”, приводящий к повреждению). Так же как и врачи знают, что ущерб, причиненный колотой раной, имеет прямое отношение к чему—то внешнему по отношению к жертве-острый кончик ножа вспарывал кожу и мышечную ткань.—адвокаты жертв сексуального насилия хотели найти внешнюю причину психологической боли и ущерба, о которых жертвы сексуального насилия сообщали впоследствии. К началу 1980-х годов был выявлен возможный механизм, который, если он будет верным, сможет решительно доказать, что сексуальное насилие наносит ущерб жертвам и что оно никогда не является их виной. Это позволило бы этой области продвинуться дальше изучения простых симптомов к фактическому осмыслению последствий сексуального насилия и развитию лечение, чтобы помочь жертвам справиться с ними позже в жизни. Этот механизм получил название “психологическая травма".Десять лет назад специалисты в области психического здоровья начали систематические, широкомасштабные исследования психологических последствий воздействия боевых действий. Это было результатом, в значительной степени, рассказов ветеранов Вьетнама о психологических проблемах и симптомах, которые они испытывали по возвращении к гражданской жизни. Антивоенные психиатры и ветеранские правозащитные группы теоретизировали, что этот психологический дистресс был связан с травмой— подавляющим страхом, ужасом и беспомощностью, ветераны испытывали, когда сталкивались с опасными для жизни переживаниями, с которыми они сталкивались в бою.
В этот период по причинам, прекрасно изложенным в книге Аллана Янга "Гармония иллюзий", профессиональный интерес к долгосрочным последствиям травматических переживаний рос в геометрической прогрессии. Совершенно новая и хорошо финансируемая область исследований-травматология - постепенно возникла и стала чрезвычайно популярной. Новые научные общества, такие как Международное общество - Изучение посттравматического стресса родилось и научное, такие издания, как "Журнал травматического стресса", были переизданы для удовлетворения растущего интереса к долгосрочным последствиям воздействия опасных для жизни переживаний. В этот период специалисты в области травматологии обнаружили, что характер психологических симптомов и проблем, о которых сообщали ветераны после боевых действий, оказался таким же, как и у жертв других видов ужасных переживаний, включая изнасилования, стихийные бедствия, концентрационные лагеря. Впоследствии родилась травматическая теория, и этот аргумент быстро смирился с тем, что воздействие любого события, которое приводит к высокому уровню психологической травмы, может непосредственно вызвать психологический ущерб (даже если этот ущерб может проявиться лишь позднее).
Новый диагноз посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) вошел в психиатрическую диагностическую систему (DSM-III) в 1980 году. Индивид может выполнить критерий для диагностики ПТСР, сообщив о определенной совокупности психологических симптомов и проблем после воздействия травматического события, которое было опасным для жизни или вызывало те же сильные эмоции, что и угрожающие жизни события. Профессиональная ратификация ПТСР, модели травматического стресса для понимания психологического вреда, стала переломным моментом для феминисток, занимающихся защитой детей, рабочих и других защитников жертв сексуального насилия.
Если сексуальное насилие было травматическим переживанием, когда оно имело место, существовала прочная теоретическая основа для объяснения многих проблем, о которых жертвы сообщали в последующем. Наконец, после более чем полувекового убеждения профессионалов в обратном, можно было бы доказать, что сексуальное насилие непосредственно вредит жертвам, что ни получают психологический ущерб, о котором жертвы сообщают в последующем, ни тот факт, что насилие произошло в первую очередь, не имеет ничего общего с жертвами. Проблема, конечно, заключалась в том, что изначально связь между диагнозом ПТСР и сексуальным насилием отнюдь не была очевидной. Теория, лежащая в основе ПТСР, не очень легко адаптировалась к опыту сексуального насилия, описанному жертвами. Классическая теория ПТСР утверждает, что симптомы проистекают из подавляющего события, которое приводит к беспомощности перед лицом невыносимого страха, тревоги и/или возбуждения. Эта теория хорошо подходит для таких травм, как военный шок и изнасилование, а также для (редких) случаи сексуального насилия, происходящие при насильственных обстоятельствах. Кроме того, сексуальное насилие меньшее событие, а в большей степени ситуация, отношения или процесс, который часто продолжается в течение определенного периода времени. По этим причинам такой подход встретил критику со стороны некоторых специалистов, которые настаивали на том, что концептуализация травмы в модели ПТСР не согласуется с опытом жертв сексуального насилия. По словам одного репрезентативного критика, “ Обстоятельства в случае прототипического сексуального насилия не подходят под определение травмы - воздействие скрытого чрезмерного события ... Большинство злоупотреблений включает в себя тонкую манипуляцию со временем детьми, взрослыми, которых они знали и доверяют—модель травмы подходит для случаев изнасилования незнакомыми людьми, но для "нормального" насилия она на самом деле неприменима”.
Казалось, это не имело большого значения. Начиная с работы Дениз Гелинас в 1983 году, статьи и книги были направлены на то, чтобы сформулировать вред сексуального насилия как форму посттравматического стресса - как прямую функцию травмы, которую жертвы испытали во время насилия. С тех пор сексуальные контакты между взрослыми и детьми стали понимать как психологически травмирующими ребенка почти в каждом случае.
Обрамление сексуального насилия как травматического события и обмана- осмысление вреда сексуального насилия как формы посттравматического стрессового расстройства дало четкие преимущества защитникам жертв сексуального насилия. Здесь была единая модель сопровождаемая связанной биологией, которая охватывала очень широкий спектр страданий, расстройств и жизненных проблем как последствий травмы, - которая могла быть применена к сексуальному насилию. Одной очень привлекательной чертой модели травматического стресса было несравненное этиологическое значение, которое она придавала “внешней” (внешней по отношению к психике) травме; модель почти полностью размещала бремя патологии вне жертв. Таким образом, это поддерживало невиновность жертв, смещая фокус внимания с их собственных эмоциональных реакций на сексуальный контакт или интерпретаций сексуального контакта на сам контакт. Еще один очень привлекательный аспект модели, что негативные последствия для ребенка (например, пристрастился к наркотикам) теперь были поняты как ответы справляются с злоупотреблениями, как “остатки мучительных навыков выживания детства”, даже чувства вины и стыда, взрослые, пострадавшие часто сообщают, сейчас может быть в качестве самостоятельного защитного и совладающего поведения оборону—не “нормальный”реакции на жестокое обращение, но симптомы основного расстройства.
Короче говоря, построив модель травмы, клиницисты и исследователи смогли примирить психологическую науку с коллективной историей невинной и пострадавшей жертвы. В своей формулировке травматическая модель поддерживала невиновность жертв, обнаруживая вред в условиях самого переживания. Как пишет Джозеф Дэвис, социолог из Университета Вирджинии, главная привлекательность модели травмы заключалась в том, что “она поддерживала недвусмысленную моральную вину преступника, включая свою ответственность за пассивность и молчание ребенка, находит причину патологии в его полном доминировании. Она помогала депатогизировать и дестигматизировать симптомы и переживания взрослого выжившего, объясняя их как необходимые реакции”. Короче говоря, модель травматического стресса выполняла мощную моральную и объяснительную работу; она сохраняла и кодировала невинность жертв.
К концу 1980-х годов связь между сексуальным насилием и ПТСР было зацементирована. А поскольку ПТСР было диагностируемым психиатрическим состоянием с установленными критериями, большая отрасль психического здоровья стала больше интересоваться сексуальным насилием над детьми. К этому времени тема была полностью поглощена изучением травм. С тех пор она там и стоит. Эта концептуализация травмы помогла не только привлечь профессионалов, но и, безусловно, привлечь больше внимания общественности к теме сексуального насилия. В своей увлекательной книге “Культура страха "Барри Гласснер пишет:" Если эксперт надеется превратить домотканую теорию в общепринятую мудрость, он должен быть смелым. Его наилучшие шансы на это — задействовать эмоции публики, ибо эмоции—враг рациональной аргументации”.
Как однажды сказал Ричард Никсон: “Люди реагируют на страх, а не на любовь. В воскресной школе этому не учат, но это правда.” Рассмотрим вызывающие страх последствия модели травмы. Целых 20 процентов детей нашей страны “насиловали в большом количестве”, “принуждали против их воли к ужасающим действиям” - действиям настолько ужасным, что большинство жертв были “психологически травмированы на всю жизнь".
Когнитивные психологи, изучающие страх, могут предложить отличные объяснения того, чего люди, как правило, особенно боятся. Например, негативные события, которые мы не можем контролировать (например, авиакатастрофа), являются гораздо большим источником страха, чем те, которые мы можем контролировать (например, автомобильная авария). Вообще говоря, мы также больше боимся негативных событий, которые легко можем себе представить (например, горение нашего дома), чем тех, которые труднее представить (например, прорыв трубы в нашем подвале и затопление нашего дома). Мы также больше боимся тех, которые происходят немедленно (как атака террористов), чем тех, которые включают постепенный процесс (как наши артерии, медленно закупоривающиеся жиром). Правда в том, что во всех случаях мы гораздо чаще страдаем от последних примеров, но они все еще не так страшны. При фиксированной вероятности наступления пугающего события (как ребенок, подвергшийся сексуальному насилию), большинство из нас гораздо более склонны к возбуждению, если оно представлено как нечто такое, что мы не можем контролировать, что мы легко можем себе представить, и это происходит сразу. Травматическая модель сексуального насилия, таким образом, особенно хорошо разработана, чтобы усилить наш страх - конечно, гораздо больше, чем истина о том, что сексуальное насилие часто является постепенным процессом, в котором запутавшийся ребенок манипулируется кем—то, кому он доверяет, совершая сексуальные действия, которые ребенок не полностью понимает. Барри Гласснер подчеркивает, что огромная власть и деньги ждут тех, кто использует наши страхи. Возможно, огромная власть и деньги не были целью в данном случае, но как только модель травмы была принята, произошли большие изменения в профессиональных и культурных убеждениях и отношение к сексуальному насилию. Люди начали интересоваться этой темой; они приняли ее как обычную и вредную для жертв. Теперь мы поняли, что жертва ни в чем не виновата. Тема сексуального насилия переместилась из виртуальной безвестности в центр общественного и профессионального внимания.
Сегодня существуют тысячи статей под названием " дескриптор сексуального насилия над детьми". В сочетании с многочисленными книгами, докладами на конференциях, профессиональными семинарами и т. д., реакция на сексуальное насилие над детьми была ошеломляющей. Программы профилактики сексуального насилия были включены в большинство учебных программ. Законы о переносе были приняты в каждом штате. Чрезвычайно влиятельный, финансируемый из федерального бюджета Национальный центр по жестокому обращению с детьми и безнадзорность создан. Существуют сотни тысяч специалистов, от психиатрии до юриспруденции, от образования до социальной работы, которые специализируются на сексуальном насилии и проводят исследования причин, последствий и профилактики. Опросы Роупера показывают, что 92% населения страны сообщает, что сексуальное насилие - это то, что нас очень беспокоит. Миллионы федеральных и частных долларов были и остаются вовлеченными в разработку программ лечения и профилактики сексуального насилия. Эти события показывают, что суровая реальность сексуального насилия над детьми, наконец, была преодолена, признана и что для решения этой проблемы была сформирована широкая коалиция.
Общественные движения, по мнению экспертов Дэвида Сноу и Роберт Бенфорд, “обрамляя и придавая смысл и интерпретируя соответствующие события и условия таким образом, чтобы мобилизовать потенциальных приверженцев и избирателей, заручиться поддержкой стороннего наблюдателя и демонизировать антагонистов”.
В течение 1980-х и 1990-х годов идея травмы не только стала частью движения (повышая внимание к распространенности и вредности сексуального насилия), но, возможно, именно лошадь тянула повозку— идея травмы доказывала вред, сохраняла невинность жертвы и помогала мобилизовать профессиональное и социальное внимание к этой теме. Как утверждает Джудит Герман в “Открытии травмы и выздоровления”, "Без контекста политического движения никогда не было бы возможно продвинуть изучение психологической травмы".
Конечно, профессионалам и защитникам движения есть чем гордиться. Действительно, модель травмы позволила группам защиты жертв в 1970-х годах достичь важной цели: привлечь внимание общества к существованию и вредности сексуального насилия. Это играло важную роль в превращении такого насилия из второстепенной социальной проблемы в передний план социального, политического, медицинского и юридического внимания. Поскольку это положило конец отрицанию, минимизации и обвинению жертвы, кажется логичным предположить, что, с их точки зрения, жертвы согласны с тем, что все это общественное и профессиональное внимание оказалось полезным для них. Как недвусмысленно заявляют авторы книги “Мужество исцелять", " Климат для тех, кто пережил сексуальное насилие над детьми, сегодня сильно отличается от того, что было в предположение, что жертвы сами сообщают о прогрессе, понятно, что адвокаты не хотят видеть, слышать или собирать какие - либо данные, которые могли бы раскачать лодку.
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД я выступил с докладом о своих исследованиях на научной конференции. Цель моей лекции была ясна: мы должны изменить модель травмы и наше культурное и профессиональное восприятие того, что происходит во время и после случая сексуального насилия. Модель травмы не очень хорошо подходит для реальности таких нарушений. Слушатели сидели молча и окаменело, пока я говорил. В конце концов, психотерапевт, специализирующийся на случаях сексуального насилия, задал мне вопрос. Она хотела знать, почему профессионалы должны думать о сексуальном насилии по другому. Даже если я был прав и сексуальное насилие не было травматическим событием в то время, когда оно произошло, что плохого в том, чтобы продолжать верить в то, во что мы все верим?
Сегодня я не удивлен такой реакцией. Я понимаю, что многие люди, посвятившие себя оказанию помощи жертвам сексуального насилия, на самом деле не заботятся о правде, окружающей реальное событие. Неточность теории травмы для них это не имеет значения. Мы живем не в научной лаборатории, а в реальном мире. А в реальном мире, исходя из скудости исследований на эту тему, большинство людей связывают наши нынешние представления о сексуальном насилии с прогрессом в отношении жертв. Учитывая это предположение, кто захочет рисковать даже намеком на возвращение в то время, когда сексуальное насилие игнорировалось, когда жертвы обвинялись в любых сексуальных преступлениях против них, и когда преступники сходили с крючка и продолжали осквернять больше невинных детей? Я понимаю, почему мы цепляемся за модель травмы. Любые данные, которые идут вразрез, это может поставить под угрозу прогресс, которого так упорно добивались защитники прав жертв. Причина, по которой правда имеет значение—причина, по которой адвокация, на самом деле, лучше всего основана на правде,—заключается в том, что наша ложь о сексуальном насилии не помогает жертвам. Как я расскажу в следующих двух главах, основываясь на том, что говорят жертвы, профессионалы в области психического здоровья не добились для них большого прогресса. К сожалению, нынешний климат для выживших, похоже, не сильно отличается сегодня от того, что было в прошлом. Сегодня жертвы все еще чувствуют игнорирование не меньше, они все еще редко говорят о преступлениях против них, и когда они это делают, они все еще не верят и обвиняют.
Когда травма миф, то какой ущерб потерпевшим.
Какой прогресс достигнут профессионалами в области сексуального насилия, когда речь заходит о понимании и лечении сексуального насилия над детьми? Конечно, мы продвинулись к тому, что некоторые из правильных вещей были сказаны (сексуальное насилие распространено и вредно; это никогда не вина ребенка). Было обеспеченоъ финансирование в области травматологии, проведены исследования, опубликованы исследования и книги, созданы лечебные центры и повышена осведомленность общественности с помощью программ сексуального просвещения и кампаний в средствах массовой информации. Но переводится ли что-либо из этого в реальный прогресс для жертв? Согласно отчету, по оценкам Министерства юстиции США, сексуальная виктимизация обходится жертвам и их семьям примерно в 1,5 миллиарда долларов медицинских расходов и в общей сложности в 23 миллиарда долларов ежегодно. Они чувствуют, что им помогают, что их понимают и что их потребности удовлетворяются эффективно? Скудость исследований по этой теме приводит к выводу, что многие профессионалы не думают спрашивать. Основная цель модели травмы—одна из главных причин, по которой специалисты в области психического здоровья с таким энтузиазмом относились к ней в 1980-е годы (поскольку данных, подтверждающих этого, было так мало)—должно было дать объяснение тому, как и почему сексуальное насилие наносит такой психологический и социальный ущерб жертвам.
Вооружившись таким объяснением, преданные своему делу специалисты в области психического здоровья надеялись лучше помочь жертвам справиться с этими разрушительными преступлениями и оправиться от него. Проблема в том, что сегодня, по прошествии более чем двадцати пяти лет, прогнозы, основанные на модели травмы, не оказались точными. Характеристики опыта сексуального насилия, связанного с травмой (например, насколько это было страшно, было ли задействовано проникновение или сила, и сколько раз это случалось) не делают хорошей работы по прогнозированию значимости психологического вреда жертвы в последующем. По - видимому, не существует прямой линейной связи между тяжестью жестокого обращения и психосоциальными трудностями, с которыми сталкиваются жертвы в зрелом возрасте. Хуже всего то, что мы не разработали явно эффективных методов лечения жертв сексуального насилия: После этого они продолжают страдать от психологических и социальных проблем, а специалисты в области психического здоровья до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, что именно и почему или что именно нужно сделать, чтобы помочь им выздороветь. Поэтому неудивительно, что в последнее время некоторые медицинские работники начали задаваться вопросом, что на самом деле принесло жертвам “двадцать лет страстной риторики о травме”.
Такое положение дел, я бы сказал, далеко не удивительно. Как травма может быть причиной вреда, если большинство жертв говорят, что насилие не было травматичным, когда оно произошло? Действительно, профессионалам следовало бы с самого начала уделять больше внимания тому, что говорят жертвы. Все большее число ученых в области сексуального насилия приходят к согласию, что понимание того, как и почему сексуальное насилие наносит ущерб жертвам, вероятно, имеет мало общего с фактическим насилием и во многом связано с тем, что происходит после него. Например, как заключил Дэвид Финкель - в своей недавней книге "Детская виктимизация", продолжающиеся исследовательские усилия, направленные на отслеживание последствий ранних событий через пути развития, когнитивные и поведенческие пути, могут оказаться более плодотворными, чем продолжение ограничительного внимания к тяжести и характеру травмы, специфичной для конкретного события. Я думаю, что сами жертвы всегда это знали.
Джейн БЫЛА ШЕСТИДЕСЯТИ ПЯТИЛЕТНЕЙ разведенной помощницей администратора на пенсии. Высокая, ширококостная рыжеволосая, с длинными фиолетовыми ногтями, она была впереди во многих вещах. Ей не понравился кофе, который я ей дал, в моем кабинете было слишком холодно (а потом слишком жарко, когда я включил отопление), и ей не понравился цвет моих волос. Мы были на той части интервью, когда я попросил ее оценить, насколько травматичным было насилие, когда оно произошло. Ей не нравились мои вопросы.
“Ничего личного,” сказала она, “но это вроде как тупо. Если вы пытаетесь сделать то, что говорите, и выяснить, почему жестокое обращение так сильно меня испортило, почему вы задаете так много вопросов о том, как это было, когда это произошло? Вам нужно сосредоточиться на том, на что это было похоже.
Я спросил, что она имеет в виду. Она нетерпеливо прищелкнула языком. - “Я хочу сказать, что то, что было, когда это случилось, и то, что происходит сейчас, - это две совершенно разные вещи.” В тот период моей карьеры у меня не было большого опыта в беседах с жертвами сексуального насилия. Однако у меня был большой опыт интервьюирования жертв других видов ужасных переживаний (автомобильные аварии, боевые действия, стихийные бедствия, похищения), и у меня были эти испытуемые для оценки, насколько травматичными были события в то время. Никто в этих исследованиях никогда не говорил мне этого раньше. И, насколько я знал в то время, ученые не говорили о том, как восприятие травматической природы переживания насилия меняется с течением времени—как событие, изначально не воспринимавшееся как ужасное, может стать таким. Они, конечно, говорили о том, как симптомы травмы (депрессия, тревога) могут не проявляться, они проявлялись горозда пойже после жестокого обращения, но они не говорили о том, как может измениться восприятие самого жестокого обращения.
Я знал, что должен серьезно отнестись к словам Джен. С этого момента я разделил свой вопрос на две части:
Каково было переживание, когда это произошло ?
И каково это переживание для вас сегодня, оглядываясь назад ?
К концу исследования данные были ясны. Хотя сексуальное насилие не было особенно ужасным переживанием для жертв, когда это происходило, оглядываясь назад, с их точки зрения как взрослых, это было ужасно—оценки шока, ужаса, отвращения и даже страха были высокими. Очевидно, что восприятие насилия, когда оно происходит, и когда жертвы оглядываются на него спустя годы, совершенно различны. Кроме того, сексуальное насилие сильно отличается от других видов ужасных жизненных переживаний. Например, попадание в автомобильную аварию травматично как в тот момент, когда оно происходит, так и позже, когда оно вспоминается (хотя, как хорошо известно исследователям памяти, мы можем искажать или неправильно запоминать некоторые аспекты этого опыта с течением времени). Сексуальное насилие, однако, становится травматично позже. Почему? Что происходит после сексуального насилия? У меня было достаточно возможностей обсудить этот вопрос с жертвами. Как я подробно обсуждал ранее, по словам жертв, они не переживали насилие как ужасное, когда оно происходило, потому что большинство просто не понимали ясно смысл или значение сексуального поведения, в котором они участвовали. Тем не менее, в какой-то момент позже в жизни они это делают. Со временем “покров невинности приподнялся”, как выразилась одна из жертв. Жертвы переосмыслили ранее “запутанные и странные переживания” и понимали их такими, какими они были—сексуальными по своей природе и явно неправильными. Только в этот момент—когда сексуальное насилие полностью раскрыто— оно начинает наносить ущерб жертвам.
Когда Энн, двадцативосьмилетней матери двоих детей, исполнилось восемь лет, ее мать начала работать вне дома. Между тремя часами, когда Энн возвращадась домой из школы и 6 часоми вечера, когда ее мама приходила домой с работы, сосед и друг ее матери по имени Фрэнк нянчился с ней. Фрэнк изнасиловал Энн. Иногда, когда Энн сидела у него на коленях, он “запускал пальцы в мои трусики и ощупывал меня … и пока это происходило, он прижимался к моей заднице и тяжело дышал.” Когда это произошло, Энн сказала, что ей не нравится то, что он делает, но она “определенно не травмирована.” И она ничем не отличалась от большинства жертв, которые говорили со мной. - Я знала, что не должна говорить об этом с матерью, но не совсем понимала почему.” Энн знала, что “он был очень любезен со мной, говорил о том, какая я принцесса, какая красавица, как повезло моей матери ... В те дни я не получала много внимания, и мне было приятно слышать все это.
” После восьми месяцев постоянных издевательств Фрэнк уехал из города, и Энн сказала, что “просто не хотела", подумайте об этом еще раз.” Но потом что-то изменилось. Энн переосмыслила свое оскорбление—она поняла смысл этих ранее неоднозначных переживаний: “Я помню это, как будто это было вчера. ... Я была в восьмом классе, и моя подруга Дженни была там, и она видела, как ее брат и его девушка целовались, и она воспроизводила их, катающихся по земле и стоны, и именно тогда [это] Я вспомнил, что произошло; это напомнило мне о том, что произошло ... Я поняла, совершенно внезапно, что то, что произошло, произошло - для меня было сексуальным—что я в основном имела сексуальный опыт с моим соседдом, когда была ребенком.” Энн потребовалось шесть лет, чтобы когнитивно переосмыслить то, что с ней произошло, и понять, что это было неправильно.
Для Джейми это заняло пять лет. Ее жестокое обращение произошло в возрасте от восьми до десяти лет в среду после полудня во время ее еженедельных уроков игры на фортепиано. Вечным ее учителем по фортепиано был мистер Андерсон. Иногда пока она играла, он трогал ее бедра, “промежность” и свои собственные гениталии. Ей не нравилось то, что он делал иногда было очень неудобно, но она не “действительно понимала”, что происходит. Ведь он неоднократно говорил ей, как прекрасна она была, “как бы там ни было, я думал может быть, это была моя вина, так я поощряла его”. После она бросила фортепиано (“не из-за злоупотреблений, а потому что была вынужден взять на уроки виолончели”), она говорит, что она “просто не думала много о том, что произошло.”
Года через четыре позвонили из полиции. “Оказалось, что он сделал то же самое с другой девушкой в городе; она была старше меня, и она рассказала кому-то, и они выдвинули обвинения ... И, о Боже, что случилось следующим, это было ... Я должен была пойти в полицейский участок, и я должна была сидеть в этой комнате с другой девушкой, моей матерью и моим отцом, и там была ... эта действительно страшная женщина, которая просто продолжала задавать мне вопросы … Неужели он это сделал? Неужели он это сделал? Когда он это сделал? . . . Так что, наверное, тогда я понял, что это жестокое обращение.”
Вот Сэм, который дважды подвергался сексуальному насилию в школьном туалете со стороны учителя, когда ему было около девяти лет, описал момент, когда он понял смысл того, что произошло с ним в школе в детстве: “когда мне было около двенадцати, я начал делать эрекцию . . . мастурбация . . . Тогда я понял, что произошло, он возбуждал меня”.
Бет, - друг отца, когда ей было семь, вспоминала, “Они показывали нам фотографии вещей насилия в классе. Я думаю, что я было в девятом классе, и я увидела одну из фотографий, и я понял ... это случилось со мной, и это был секс ... Это было неправильно.”
РАССМАТРИВАЯ ЭТОТ ПРОЦЕСС переосмысления, я не первый человек в области сексуального насилия, который отмечает, что жертвы сексуального насилия могут не понимать действия, природу или смысл своих переживаний до более позднего периода жизни. Еще в 1979 году Дэвид Финкельхор писал, дети могут не понимать смысла половых актов, которыми они занимаются, но потом, в более поздний период жизни, внезапно осознают, что это поведение неуместно. Либо дети узнали больше о сексе, либо они узнали, что в семьях их друзей таких вещей не бывает ... В этот момент им становится ясен сексуальный смысл всей предыдущей деятельности. Таким образом, у нас складывается впечатление, что даже когда маленький ребенок сначала не распознает действия в большинстве случаев смысл этого поведения становится ясным в какой-то последующий момент.
Люси Берлинер и Джон Конте в своем исследовании 1990 года отметили, что большинство опрошенных ими детей изначально не знали о том, что они подвергались сексуальному насилию. Берлинер и Конте цитировали жертв, которые говорили такие вещи, как “Меня заставили поверить, что это был процесс обучения” и “Я не знал, что в этом есть что-то неправильное, потому что я не знал, что это было насилие, до тех пор, позже. Я думала, он проявляет ко мне нежность”. Совсем недавно два когнитивных психолога, Мишель Эпштейн и Бетт Боттомс, в частности, выдвинули гипотезу, что из-за запутанной и скрытной природы жестокого обращения, многие жертвы могут не понимать значения совершенных сексуальных актов (и впоследствии на какое - то время забывать о них), но затем, в более поздний момент, приходят к “переклейке” переживаний как “травматических”.
Дети (не болезненные и не насильственные) и возраст большинства жертв (до двенадцати лет), большинство из них не могут понять точную природу или смысл этих переживаний до определенного момента позже в жизни. В моем исследовании—ничем не отличающемся от других исследований— точное количество времени, которое потребовалось жертвам, чтобы осознать, что с ними произошло, варьировалось. Это зависело от индивидуальных жертв, от того, сколько им было лет, когда они подвергались насилию, какой образовательный и жизненный опыт научил их сексу и какие сигналы вызвали у них мысли о том, что произошло, и признание этого злоупотреблением. Жертвы описывали момент осознания по разному: “Загорелся свет”, “Я сказал:” О Боже“. - Для многих это было " как будто взорвалась бомба ... Святое дерьмо! Меня оскорбили!” Для многих осознание этого было “долгим, затянувшимся процессом”, который медленно выстраивался до нового понимания злоупотребления. Одна вещь не изменилась: только в этот момент—когда жертвы поняли насилие как таковое, когда они переосмыслили эти ранее неоднозначные и запутанные события - переживание стало психологически травматичным и начинало оказывать свое негативное воздействие. И, в резком контрасте с нашим коллективным пониманием насилия, эти последствия не кажутся непосредственными и прямыми, и они не имеют ничего общего с какой - либо “эмоциональной перегрузкой” во время насилия (страх за физическую безопасность со стороны жертвы). Скорее, они являются косвенными, частью процесса, и они имеют отношение к негативным способам, с помощью которых жертвы начинают чувствовать себя по отношению к другим людям и самим себе. Прежде всего, они чувствуют себя преданными.
Когда они обнаруживают, что подверглись насилию, виктимы чаще всего сообщают о чувстве предательства. Как Шерил, сорока четырехлетняя учительница средней школы, находившаяся в декретном отпуске с тройней, сказала: “Я поняла, что доверяю ему, тому, что он делает, но не должна была. Он знал, что делает что-то не то, и он знал. Как сказал Нейл, активист по борьбе со СПИДом, работающий в бостонском госпитале,” Я понял, что дело не только в том, что он сделал со мной физически. В этот момент [открытия], Я потерял отца. Он больше не был тем, кто любил и заботился обо мне. Он просто использовал меня для личного удовлетворения.”
Жертвы сексуального насилия часто чувствуют себя преданными по уважительной причине: их предали.Злоупотребление является преднамеренным со стороны виновных. Кто-то, кого ребенок знал, нарушил социальные нормы. Хотя у преступника может быть объяснение—он был одинок, его жена не спала с ним, он был пьян и т. д.. Почти во всех случаях он все еще очень хорошо осознает, что то, что он делает, неправильно. Как Мортон Бард и Дон Сангри, поисковики, специализирующиеся на межличностных преступлениях, отмечают: “Жертвы были умышленно изнасилованы другим человеком. Преступление не было случайностью ... Оно является прямым результатом сознательного злого умысла другого человека”.
Для жертв, которые говорили со мной, степень предательства была функцией двух основных переменных. Во - первых, это зависело от того, насколько близка жертва к преступнику, насколько она доверяет ему, заботится о нем или любит его. Вот как Марта, арт-директор рекламного агентства, описала точку переосмысления: В тот день, когда я поняла, что произошло, я должна была подумать об этом опыте с точки зрения того, как много этот человек значил для меня в моей жизни ... То, что он сделал, не причинило мне никакой физической боли; то, что причинило мне боль психологическую, - это то, что я поняла, насколько он был важен для меня. Я думала, что он потрясающий, замечательный человек ... Я действительно восхищалась им и смотрела на него снизу вверх ... Все мои отношения, моя память, мое прошлое действительно изменились, от просто "тех вещей, которые он делал ночью" до полного предательства. Это было действительно душераздирающе ... Я не могла перестать плакать. Я была достаточно глупа, чтобы думать, что ему не все равно. Я думала, что он замечательный, хороший человек.
Второй переменной, связанной со степенью преданности жертв в моем исследовании, была степень, в которой жертва полагала, что преступник эмоционально манипулировал ею или “был захвачен” ситуацией. В тех случаях, когда насилие было травматичным (оно включало в себя силу, насилие или боль), жертвы впоследствии чувствовали себя менее преданными. Поскольку в этих случаях дети ясно понимали неправильность ситуации, любое чувство предательства возникало немедленно. И потому, что дети понимали они были жертвами, жестокое обращение вряд ли повторится (а если и повторится, то ребенок останется здоровым, осознающим свою виктимность). Таким образом, жертвы не должны были подвергаться длительным периодам, в течение которых они неосознанно становились жертвами, как сказал мне один субъект, “изощренных игр сексуального предательства”, как выразился Том, нейрохирург: “В течение двух лет, пока это происходило, я чувствовал себя хорошо по отношению к нему. Я верил ему, всей его лжи, и позволял ему делать все, что он хотел. Меня тошнит при мысли о том, как сильно я ему доверял, как сильно ... , другими словами, степень предательства, которую жертвы чувствовали после этого, была обратной функцией того, насколько травматичным было насилие, когда оно произошло: чем менее травматичным оно было, тем больше жертв предательства сообщали. Как следствие, многие говорили мне, это предательство заставило их переосмыслить прошлое—поставить под сомнение некоторые из их фундаментальных предположений о том, что их любят и защищают. Для многих жертв прежнее чувство безопасности разрушено; многие сообщают, что испытывают новое чувство межличностной незащищенности и уязвимости. Как сказала Мария в тот день, когда я понял, что со мной произошло, я полностью потерял чувство безопасности. Детский капюшон, который, как мне казалось, у меня был—безопасность, которая окутывала меня— был разрушен. Люди, которые должны были заботиться о моем благополучии [и] заботиться обо мне, не делали этого.” Эти чувства незащищенности и уязвимости не ограничиваются преступником и событием. Они имеют глобальные и всепроникающие последствия; они простираются далеко за пределы реальной ситуации злоупотребления. Многие испытывают разрушение доверия, и не только к преступнику, но и другим людям. Подобные комментарии встречаются довольно часто: Это научило меня тому, что я никому не могу доверять, что даже самые честные и заботливые люди, вероятно, занимаются этим только для себя. Я всегда думаю, что они лгут, что никто на самом деле не любит меня—что они просто используют меня каким-то образом.
Это предательство влияет не только на чувство безопасности и доверия жертв к другим, но и на их самооценку. Они чувствуют, что раз их не любили, то, может быть, они и не стоили любви. Как объяснил мне Чарльз, профессор истории, “Вы узнаете, кто вы есть и то, что вы можете хотеть или нуждаться, просто не имеет значения.” Для многих тот факт, что кто — то, кого они любили и кому доверяли, злоупотреблял ими, заставлял их думать, что этот человек считает, что они заслуживают такого обращения. Как Элинор, внештатный фотограф для таких изданий, как National Geographic, сказала: “Что он во мне нашел? Что это было во мне, а не в моих сестрах? Он мог прийти за любым из нас; мы все были там ... Я думаю, во мне было что-то такое, может быть, потому, что я была слишком нуждающийся?”
Учитывая степень и степень предательства, жертвы чувствовали, я ожидал, что гнев на преступника будет обычной реакцией. Однако только 5% спонтанно перенесли чувство злости на своего обидчика. Почему бы жертве преступления, наказуемого почти в любой судебной системе мира, не рассердиться на преступника? Что касается жертв, то это происходит потому, что они направили свой гнев внутрь. Большинство, до шокирующей степени, винили себя.
По мнению философов, психиатров и интеллектуалов от Аристотеля до Уильяма Джеймса, от Шелли Тейлора до Брендана Махера, от Зигмунда Фрейда до Дональда Спенса, когда с людьми случается что—то плохое - например, когда они подвергаются сексуальному насилию со стороны взрослого, которому они доверяют,—человеческая природа хочет заняться поиском смысла, понять, почему произошло это событие и каковы его последствия для жизни. Исследователь памяти XIX века Фредерик Барт - Летт, возможно, был первым, кто начал этот поиск: он назвал его “усилие после смысла”.
Как психологи Ронни Янофф-Булман и Камилла Вортман объясняет, что врожденная потребность “верить в справедливый мир”-где люди получают то, что они заслуживают, и отказываются от того, что они получают,—может мотивировать этот процесс. С этим согласны и другие исследователи. Как утверждают Мелвин Лернер и Каролин Симмонс, “Кажется очевидным, что большинство людей не могут позволить себе, ради собственного здравомыслия, верить в мир, управляемый расписанием случайных подкреплений”.
И если мы сможем найти причину, мы будем менее уязвимы, будущее, способное лучше предсказывать и контролировать то, что с нами происходит. Когда жертвы пытаются осмыслить свой опыт, они вовлекаются в процесс атрибуции: они просматривают все возможные объяснения, которые они могут генерировать, чтобы найти то, которое, по их мнению, подходит лучше всего.
В традиционном понимании атрибуции - это индивидуальные каузальные объяснения того, почему происходят события. Если жертва спросит, почему кто-то, кому я доверял, оскорбил меня? есть, конечно, бесконечное множество возможных ответов. Например, он напился или был болен, не в том месте и не в то время. Известный теоретик атрибуции Мартин Селигман назвал бы эту категорию ответов “внешними объяснениями негативных событий”.
Но почти все жертвы говорили, в какой-то степени, с “внутренним” объяснением. Они видят в жестоком обращении свою вину, вызванную их собственными особенностями или поведением. Обратите внимание на некоторые комментарии здесь:
Что же я сделал? Какой сигнал я послала, что заставило его сделать это со мной?
Ну, как только я понял, что получил с помощью ... Потом я подумал, что я как - то с этим связан; может быть, это моя вина. Я просто чувствую себя использованной. Грязный. Думаю, отчасти это было потому, что он знал, что я гей, и просто выбрал меня своей мишенью … как будто это я виновата ... Как будто это моя вина.
Я спрашивал жертв, кто виноват в жестоком обращении—они, преступник или оба. Почти 80% считали, что виноваты оба. В то время как почти все могли это признать, что виноват преступник, они тоже думали, что сделали что-то не так. Особенно душераздирающим в этом чувстве вины является его вездесущность. Жертвы чувствуют, что как бы то ни было, что вызвало насилие не ограничивается спецификой нахождений (например, “это произошло потому что в то время в моей жизни я ещё не понимал секс”); вместо этого, как атрибутивным теоретики сказали бы, это глобальное и стабильное (это распространяется и на другие ситуации, по времени). Другими словами, жертвы не просто чувствуют, что они сделали что-то не так в отношении насилия; они чувствуют, что с ними как с личностями что-то не так, что все, что в них вызвало насилие, является характерным, логичным. Как объяснила Саманта, ветеринар лет сорока, к которой в возрасте от семи до девяти приставал ее отчим, “Я думаю, это произошло потому, что Я была странной ... Вот почему он искал меня; вот почему я ответила так, как я сделала. Я знаю, что он поступил неправильно, но не могу отделаться от ощущения, что со мной что-то не так”, - как выразилась Сьюзи, двадцативосьмилетняя обозревательница популярного подросткового журнала: “Люди могут сказать мне, что это была не моя вина, но в глубине души, знаете, что я думаю? Плохие вещи случаются с плохими людьми.”
Я, конечно, не первый, кто обнаружил, что жертвы сексуального насилия часто чувствуют себя виноватыми в том, что произошло. По крайней мере, со времени работы Лоретты Бендер и Абрама Блау в 1937 году клиницисты и исследователи сообщали, что чувство вины является распространенным последствием сексуального насилия и что самообвинение неизменно является его наследием. Как утверждает Дениз Гелинас, “Чувство вины играет существенную роль в их повседневном функционировании, самоидентификации и оценке того, на что они имеют законное право в отношениях. ... Жертвы большинство из них неизменно выражают чувство вины по поводу возникновения переживания и обычно винят себя”. По словам Ирвинга Кауфмана и его коллег, “Чувство вины — это универсальное клиническое открытие”. Исследователи редко формулируют, однако, последовательное объяснение того, почему жертвы чувствуют себя настолько виноватыми. Если, как подчеркивали исследователи травм в течение последних двадцати пяти лет, сексуальное насилие-это нечто, совершаемое с жертвой против ее воли, почему так много жертв чувствуют себя виноватыми? Некоторые профессионалы предпочитают, чтобы это оставалось тайной. Другие предлагают такие объяснения, как то, что преступники прямо сказали жертвам, что насилие было их виной, или, возможно, жертвы хотят чувствовать, что это была их вина, потому что они чувствуют себя лояльными к своим обидчикам, или они предпочитают чувствовать вину, а не верить, что они были полностью беспомощны и не имели никакого контроля над своими обидчиками.
Относительно этого последнего объяснения Дэвид Шпигель, чрезвычайно влиятельный исследователь сексуального насилия, отмечает, что большинство жертв “ неуместно обвиняют себя в ситуациях, над которыми они не имели никакого контроля. Как ни странно, менее болезненно думать, что вы принесли с собой”.
Джудит Герман предлагает совершенно другое объяснение: отчет жертвы вины на самом деле может быть симптомом нового психического расстройства, которое она называет комплексным посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) (вызванным длительным воздействием межличностной травмы).
Ни одно из этих объяснений даже близко не соответствует тому, которое дает большинство жертв. Я обнаружил, что у виктимов, есть довольно ясная причина, которая не имеет ничего общего с тем, что преступник сказал им, во что они подсознательно хотят верить, или с чем-то иррациональным или психиатрически неупорядоченное мышление с их стороны. По иронии судьбы, многие из нас считают свой ответ слишком “политически корректным”, чтобы обращаться к нему или обсуждать его. Жертва говорит, что чувствует себя виноватой, потому что насилие было совершено не против их воли. С их точки зрения, они чувствуют, что позволили этому случиться. Вот как выразилась учительница третьего класса Шейла: “Я уже давно лечусь от этой болезни, и мне все еще трудно смириться с тем, что произошло, и признать, что это не моя вина … Я понимаю, что насилие-это то, что делается с вами против вашей воли. Но, судя по тому, как это случилось со мной, я это допустила. Так что в этом смысле я очень сильно чувствую, что это была моя вина.”
Стивен, профессор английского языка в колледже гуманитарных наук, сказал: “Да, этот парень был хуесосом - во многих отношениях, и я знаю, что технически это была его вина ... но я все еще чувствую себя вовлеченным. Я был вовлечен. Я позволил этому случиться. Я мог бы сказать "нет"; в то время я думал, что, может быть, мне следует сказать "нет", но не сказал. Я позволил этому случиться.” Вот как Крис, двадцативосьмилетний парень из Дорчестера, штат Массачусетс, размышлял о своем опыте: “Что я скажу кому-то? Я сделал этому парню минет двенадцать раз? Я думаю, что это заставит меня выглядеть хуже, чем он.”
Конечно, как мы все знаем, дети не обладают достаточной информацией, чтобы понимать или адекватно реагировать на сексуальные ситуации, в которые они попадают. Повторяя ранее сказанное, можно сказать, что по этой причине сексуальное насилие никогда и ни при каких обстоятельствах не является виной ребенка. Юридически вы не можете дать согласие, если у вас недостаточно информации для принятия обоснованного решения. Но когда речь идет об опыте жертв сексуального насилия, то что технически, юридически правильно, не имеет значения. Скорее, так оно и есть, важно видеть проблему с точки зрения жертв в то время, когда произошло насилие. Они чувствуют, что согласились. Когда речь заходит о сексуальном насилии, нам необходимо избавиться от предубеждений, связанных со взрослостью. Некоторые жертвы чувствуют себя не столько виноватыми, столько соучастниками, что даже не уверены, что подвергались насилию. Сара, двадцатитрехлетняя барменша с густой татуировкой в модном районе Бостона, задумалась: Ты знаешь это выражение, о том, что нельзя насиловать желающих?” Альберт, корпоративный юрист, сказал: “Я не уверен, что технически это возможно если бы я не боролся с этим, меня бы назвали жестоким обращением. К тому же я взяла то, что он мне дал. Я не брал их [фигурки героев Звездных войн] и швырнуть их ему в лицо.” Бритни, двадцативосьмилетняя внештатная журналистка, объяснила: “Чтобы это было оскорблением, я думаю, это должно быть сделано против воли человека. То, как это случилось со мной, было больше похоже на то, что я бы сказала, что позволила.” В связи с этим во время моих первоначальных скрининговых интервью жертвы нередко спрашивали меня: “Считаю ли я?” или “Встречаюсь ли я с критерией” как жертва сексуального насилия. В начале этого исследовательского проекта, я нашел эти вопросы озадачивающими.
Как эти люди могли не быть уверены? С моей точки зрения, как наблюдателя, было совершенно ясно, что так оно и есть. В конце проекта, я понял. Они не были уверены, что “считается” жертвами, потому что считали, что случившееся было (полностью или частично) их виной. Я обнаружил, что степень вины, которую жертвы чувствуют после сексуального насилия, действительно сильно связана со степенью травмы, пережитой во время насилия, когда оно произошло. В частности, менее травматичным жестокое обращение было в то время, когда оно сразу было исправлено, больше вины и самообвинения жертвы сообщают позже. Те жертвы, чьи злоупотребления были связаны с применением силы или насилия, обычно сообщают о наименьшей степени вины. В таких случаях жертвы знают, что это не их вина. Один из виктим, с которым я разговаривал, довольно хорошо подытожил это: “Я истекал кровью. Я закричала, когда это случилось. Он убежал. Меня срочно отвезли в больницу. Мне было совершенно ясно, что он сделал что-то не так, что это определенно не моя вина.” Как выразилась другая жертва: “Это было жестоким. Что он оставляет следы или шрамы. Тогда, по крайней мере, я бы знал, что это плохо, что со мной делают что-то плохое. Тогда я бы прекратил это ... Я бы чувствовал себя менее виноватым. ... Возможно, сегодня я не буду чувствовать себя так дерьмово.”
Жертвы, которые сообщают об отсутствии травм вообще во время насилия (например, те, кто любил преступника, наслаждался вниманием или иногда приветствовал контакт, чувствуют себя крайне виноватыми. Рассмотрим следующие комментарии жертв, с которыми я разговаривал:
Я ответила ... Мое тело ответило ... Он видел это, но не мог скрыть. Да, я говорю это - несколько раз мне было хорошо. По этой причине. Я никогда никому не скажу. Как это может быть оскорблением, если ты от него отделался?
В том возрасте мне не уделяли особого внимания. Моего отца там не было, и мама работала круглосуточно, чтобы содержать нас. Я была одиноким ребенком. Я была лишена внимания. Это было внимание, и я отчаянно нуждалась в ком-то, с кем могла бы быть. Меня переполняет отвращение к самому себе за то, что я допустил это, что я был достаточно жалок, чтобы думать, что это любовь. Мне придется это сделать, а потом он отвезет меня в магазин за углом. Купит мне всякая всячина ... комиксы, конфеты, петарды и так далее ... В детстве это было очень увлекательно. … Наверное, я знала, что это неправильно, но, Боже, я любила этот магазин. В этом смысле я чувствую себя больным ребенком.
Разве признание их “сексуальной неграмотности”—их непонимания того, что происходило в то время,—не помогает облегчить чувство вины и соучастия, которое испытывают жертвы? К сожалению, это не помогло жертвам, с которыми я разговаривал, почувствовать себя лучше. Хотя они понимали, что, будучи детьми, они были сбиты с толку, они чувствовали, что это смятение само по себе было ненормальным. Они думали, что должны были знать или действовать иначе. Действительно, многие жертвы страдают от “представлений о возможности избежать”—веры в то, что они могли бы избежать того, что произошло, и что другие дети могли бы это сделать и сделали. Степень, в которой жертвы считают, что они могли бы избежать насилия, предсказывает самобичевание больше, чем что-либо другое. Почему? К сожалению, часть причин напрямую связана с травматическим мифом о сексуальном насилии. Как хорошо известно исследователям, изучающим процессы атрибуции, когда люди ищут смысл, когда мы мысленно просматриваем возможные причины негативных событий, которые с нами произошли, список объяснений не бесконечен. Согласно процессу, называемому абстрагирующим рассуждением, в нашем поиске ответов набор объяснений, которые мы можем генерировать, ограничен набором, который мы осознаем. Сегодня большинство взрослых жертв знают о сексуальном насилии, о том, как оно происходит и как дети реагируют в то время, является функцией того, что они слышат, читают и видят в средствах массовой информации—культурные особенности, стандартные сценарии об этом преступлении. Из-за мифа о травме, согласно этим сценариям, сексуальное насилие обычно включает в себя страх, силу и угрозу. Переживание изображается как ужасное для жертв. Они пугаются, когда это происходит. Они пытаются сопротивляться насилию. Что бы ни случилось, это явно происходит против их воли. Книги, фильмы и сайты постоянно уверяют жертв , что они не контролируют ситуацию, что они совершенно беспомощны. Такие слова, как “изнасилование”, “нападение” и “насилие”, обычно используются для концептуализации переживания.
Никакие профессионалы явно не обсуждают с жертвами или подчеркните реальную динамику сексуального насилия—что жертвы редко сопротивляются им, часто заботятся о преступниках и часто получают “преимущества” за участие, такие как похвала, внимание и подарки. На самом деле, такого рода информация может быть фактически подавлена. Предисловие к бестселлеру “Тайные выжившие "начинается словами:" Это книга о последствиях сексуального насилия. Речь идет не о том, что такое сексуальное насилие, а о том, что делает сексуальное насилие”.
Похоже, среди профессионалов существует убеждение, что вы не должны говорить об аспектах сексуального насилия это вообще противоречит модели травмы. Флоренция Раш отмечает, что во время ее психотерапевтического тренинга, она специально сказала, чтобы не имеет дело непосредственно с согласием на лечение, потому что жертвы “чувствуют себя слишком виноватыми и стыдятся”. Дико популярная книга писания- десять специалистов Джудит Герман: она предупреждает специалистов не говорить о вопросах, о согласии, так как это, вероятно, чтобы виктим “снова будет подвергнут повторной виктимизации”. Meiselman Карин, и ее влиятельная книга для профессионалов, говорит Врачи, хотят исследовать пациента или его чувства вины в терапии“, терапевт не одобряет подавления вины”, чтобы исцелить, в наиболее популярных книгах о сексуальном насилии, авторы переходят крайние меры, чтобы заверить потерпевших, что с ними случилось было против их воли. На страницах жертвы психотерапии винят себя, потому что в двенадцать лет они не сказали " нет " преступнику, чтобы он остановился. - Почему я не могла сделать это сразу, в четыре, когда он начал?” жертва наказывает себя. - У меня была сила остановить его.”
Но авторы быстро напоминают любой жертве, читающей книгу с таким же чувством: “Насильники не останавливаются, потому что вы говорите” нет "... У вас меньше контроля, чем вы думаете ".
Из - за мифа о травме я не знаю ни одной публичной информационной кампании, в которой говорилось бы: “Дети не знают достаточно, чтобы сказать "нет".” Нет книг, говорящих жертвам: “Вы позволяете этому случиться, и все в порядке. Это нормально. Вы были слишком молоды, чтобы знать о плохом:” Я не знаю ни одной газетной статьи, в которой жертва спустя годы выдвигала бы обвинения и прямо говорила: “Я бы это сделала сегодня, в зависимости от неустанного акцента области психического здоровья на травмах, силе и насилии и последующего эмбарго на любую реальную практическую информацию о реальности сексуального насилия, большинство переживаний виктимов ускользают от радара, их истории игнорируются или отрицаются теми самыми людьми, которые якобы пытаются им помочь.
Каково же следствие? Для жертв это очень важно. Они, естественно, сравнивают то, что с ними произошло, с изображениями насилия в культурных текстах. Как сказал мне Джеймс, медсестра: “То, что случилось со мной, отличалось от других детей. Я ... ну ... это трудно сказать вслух, но в основном я позволяю этому случиться.” Со мной что-то не так. Арни, самозанятый компьютерный программист, сказал: “Тот факт, что другие дети были травмированы, когда это происходит, в значительной степени подтвердил, что со мной что-то серьезно не так”, временами мне это нравилось. Очевидно, со мной что-то случилось. Я думаю, что комментарии Карен лучше всего суммируют эту перспективу: “Я знаю, что сексуальное насилие является обычным явлением, но, вероятно, не то, что случилось со мной, - объяснила Клаудиа. - Мое насилие не было связано с такой силой и насилием. Я в основном позволяла этому случиться ... так что это не было классическим злоупотреблением.” Концептуализация травмы приводит не только к тому, что негативные чувства вины и изоляции жертв не нейтрализуются, но и к их обострению; жертвы чувствую себя еще хуже. Тот факт, что их жестокое обращение мало похоже на то, что, по — видимому, происходит со всеми другими жертвами, усиливает их чувство, что они сделали что-то “неправильно” или, возможно, даже хуже, что с ними что-то не так. Они отличаются от большинства жертв. Ирония заключается в том, что после того, как профессионалы более тридцати лет неустанно работали над повышением осведомленности о том, что сексуальное насилие является обычным явлением и никогда не является виной жертвы, реальные жертвы все еще чувствуют себя одинокими и виноватыми. Учитывая степень предательства, чувства вины и изоляции, которую испытывают жертвы, неудивительно, что они также испытывают чувство вины.- Монли пожаловался на стыд.
Стыд, как может подтвердить большинство исследователей и клиницистов в этой области, является повторяющейся темой в контексте сексуального насилия над людьми. Это ужасная эмоция, в которой " я " рассматривается как некомпетентное и как объект о насмешках, презрении и отвращении. Люди, испытывающие стыд, часто считают себя ущербными и неполноценными. По крайней мере, чувство вины может быть продуктивным, поскольку оно иногда мотивирует изменения в поведении. Но стыд переполняет. К сожалению, большинство жертв используют слово “стыд”, чтобы описать, как их жестокое обращение заставляет их чувствовать себя взрослее. Как подытожила одна из жертв: “Я думаю, что в основе ущерба лежит стыд. Это разъедает меня. Это подорвало мою самооценку и уверенность в себе, мою способность любить и чувствовать себя любимой. Насилие прекратилось, когда мне исполнилось двенадцать; позор остался на всю мою жизнь.”
Я не могу предложить четкую теоретическую модель того, как и почему сексуальное насилие наносит ущерб жертвам. Это выходит за рамки моих исследований. Однако я могу с большой уверенностью сказать, что, основываясь на том, что говорят жертвы, теория травмы должна уйти. Это не подходит для большинства случаев сексуального насилия. Во-первых, и это самое очевидное.- таким образом, сексуальное насилие для большинства жертв не является травматическим переживанием, когда оно происходит. Во-вторых, очевидно, что вред, причиняемый сексуальным насилием, не является прямым и непосредственным; прежде чем он начнет наносить ущерб жертвам, он должен быть понят (“переосмыслен”), и это часто происходит через много лет после фактического насилия. В - третьих, причина повреждения, по-видимому, не имеет ничего общего с какими-либо объективными характеристиками жестокого обращения по отношению к травме и всему остальному в связи с последствиями—в частности, с тем, как жертвы начинают чувствовать себя по отношению к себе и другим и как эти чувства влияют на их эмоции, познание и поведение. Как выразился Джонатан, профессор английского языка средних лет в местном колледже, “Насилие, когда оно произошло, было настолько тихим, что я даже не слышал его. Теперь отголоски случившегося не дают мне спать по ночам.”
Растущий объем данных указывает на то, что чувства предательства, стыда, вины и самобичевания являются мощными стимулом психопатологических симптомов и расстройств, таких как депрессия, низкая самооценка и ПТСР после сексуального насилия. Они гораздо лучше предсказывают психологические расстройства и дисфункции жертв, чем что-либо, имеющее отношение к травме насилия, когда это произошло. Эти чувства редко существуют без других подобных эмоций, таких как отвращение к себе, неуверенность в себе, печаль и безнадежность. Не нужно быть ученым, чтобы определить, что людям, страдающим от этих эмоций, очень трудно чувствовать себя хорошо изо дня в день. Из-за этого им трудно нормально функционировать в мире: строить близкие и поддерживающие отношения, развивать самооценку, необходимую для устойчивого развития или получать удовольствие от деятельности или взаимодействия с другими людьми. Не удивительно и то, что такие негативные эмоции могут создать модель поведения, которая подтверждает и подкрепляет эти чувства - например, избегающее и изолированное поведение или принятие плохого обращения со стороны других (например, оскорбительные отношения). И вместо того, чтобы делиться эмпирической мудростью с жертвами, каждый негативный опыт может служить укреплению уже укоренившегося чувства неполноценности, от которого они страдают.
Дальнейшая поддержка перспективы того, что какая плотина-большинство жертв века имеет мало общего с любой травмой, они имеют опыт во время злоупотребления и много общего со стыдом, чувством вины и изоляции, они чувствуют себя в дальнейшей жизни как будто это исходит из того, что в немногих исследованиях, которые специально проводили, лечебные приемы при когнитивной переподготовки—выявление (например, что насилие, по их вине), а затем помогая им изменить эти убеждения (например, путем предоставления убедительной информации почему это не их вина)—показывая твердое обещание в улучшении жизни жертв сексуального насилия.
Я ДУМАЮ, ЧТО ЛУЧШАЯ ПОДДЕРЖКА этой точки зрения исходит от самих реальных жертв. Я спросил их, кто-то может сказать им, что может заставить их чувствовать себя лучше на то, что произошло. Неизменно у них были одни и те же две просьбы: варианты “Я хотел бы знать, что это случилось с другими людьми” и “Я хотел бы знать, что это не моя вина.” Их ответы являются трагическим наследием модели травмы, которая так долго подчеркивала аспекты сексуального насилия, не относящиеся к опыту большинства жертв.
Систематически избегая этих истин о сексуальном насилии, профессионалы не смогли донести до жертв, что случившееся с ними является обычным явлением и что они не виноваты. Жертвы все еще чувствуют себя одинокими. Они по прежнему сообщают о чувстве вины, изоляции и стыда, чувствах настолько острых и всепроникающих, что они могут фактически лежать в основе психологического вреда, на который была направлена модель травмы.
Сегодня жертвы должны услышать правду. Это требует от всех нас публично осветить истинную динамику сексуального насилия - разоблачить болезненную реальность в которой большинство жертв заботятся и доверяют преступникам (и прежде, и иногда во время и после, нескольких злоупотреблений), что они не очень понимаю природу того, что произошло с ними, что они чувствуют, что они получают любовь и внимание, что это не больно и иногда чувствуют себя хорошо, и, что по всем этим причинам, участие общее.
Узнав правду о том, как жертвы чувствуют и ведут себя во время сексуального насилия, жертвы должны услышать, громко и ясно, почему они не виноваты. Мы не можем достичь этого с помощью банальностей или общих заявлений например, “Ты не виноват” или “Это было сделано против твоей воли.” Они согласились не потому, что были вынуждены, а потому, что не понимали достаточно, чтобы не делать этого. И жертвы должны знать, что это нормально.
Хотя они допустили ошибку в суждении—в идеале они должны были сказать "нет"; они должны были сопротивляться— мы должны заверить жертв, что, учитывая их возраст и уровень когнитивного и физического развития, эта ошибка была понятна.
Короче говоря, чтобы помочь жертвам чувствовать себя менее стигматизированными после сексуального насилия, мы все должны сообщить, что они были беспомощными жертвами—не буквально беспомощными, как их изображает травматическая модель, а метафорически беспомощными жертвами своего собственного уровня развития. Эта информация должна быть освещена в форме профилактических кампаний, книг, веб-сайтов и других культурно доступных источников. Пока этого не произойдет, жертвы будут продолжать чувствовать себя одинокими, виноватыми и пристыженными.
Профессионалы могут опасаться, что привлечение внимания к участию детей в жестоком обращении вызовет у других десятков способность ЖЕРТВ осуждать жертв, но я думаю, что нам лучше пройти мимо этого. Жертвы уже сами себя осуждают. Вот в чем трагический парадокс. Если когнитивная интерпретация события жертвой направляет процесс психологической адаптации после сексуального насилия, то теория травмы не только ошибочна, но и фактически обратна. Чем менее травматичным было сексуальное насилие, когда оно произошло, тем больше предательства, вины, изоляции и стыда будут чувствовать жертвы, и тем больше психологических страданий и дисфункций они могут испытать в последствии. И потому что это наоборот, модель травмы просто не в состоянии помочь жертвам; это на самом деле причиняет некоторый вред, который должен был объяснить, одновременно усиливая разрушительные убеждения жертвы (“Это была моя вина”, “Я один”, “Со мной что - то не так”) и подавляя информацию, которая могла бы их нейтрализовать.
Молчание Жертв. Как миф о травме.
Часто говорят, что пропаганде лучше всего помогает правда. Редко сформулированная причина этого. Я объяснил, что, неправильно характеризуя сексуальное насилие, изображая его как травматическое переживание для ребенка, когда оно происходит, мы не только упускаем из виду первопричину психологического вреда, но и непреднамеренно дополняем его. Дальнейшее следствие этой неправильной характеристики?
Мы заставляем замолчать жертв (и тем самым фактически способствуем существованию тех самых преступлений, с которыми мы стремимся покончить).
Тридцать лет назад—до принятия травматической концепции сексуального насилия, когда многие профессионалы отрицали существование сексуального насилия или обвиняли жертв, феминистки оспаривали тот факт, что “заговор молчания” заставил большинство жертв нести бремя их тайны в одиночку. Как выразилась Флоренс Раш, “Сокрытие-единственное средство жертвы ...
Сексуальное насилие, таким образом, лучше всего держится в секрете в мире.” С тех пор маятник профессиональных убеждений сильно качнулся. Сегодня сексуальное насилие широко признано обычным явлением и никогда не является виной жертвы. Но мало что изменилось в отношении решения жертв высказаться об их жестоком обращении. Согласно большому и последовательному массиву данных, большинство жертв могут либо молчать, либо воздержаться от полного раскрытия. Менее 10 процентов реальных преступлений, когда - либо регистрируются. Рассмотрим результаты Национального обследования здоровья и социальной жизни, крупнейшего и наиболее методологически обоснованного национального исследования по сексуальному насилию. До их интервью с исследователями, только 22 процента жертв, случайно отобранных в общей популяции, сообщили о своем сексуальном насилии. Менее половины жертв, с которыми я разговаривал за последнее десятилетие, говорили о своем жестоком обращении до этого их интервью со мной. Поначалу мне было чрезвычайно трудно это понять. Почему жертва преступления, не говоря уже о преступлении, которое причинило ей вред, предпочитает молчать о том, что произошло?
Я, конечно, был не первым, кто задал этот вопрос. Почему так мало жертв высказываются вслух - это тема для многих дебатов. Одна широко принятая теория утверждает, что это было, потому что в детстве их предупреждали не делать этого— преступник угрожал, что им или людям, о которых они заботились, будет причинен вред, если они заговорят. В Мужестве исцелять, самая читаемая книга для жертв сексуального насилия, авторы отмечают: “Насильники говорят такие вещи, как ” Я убью тебя, если ты расскажешь “. Автор "Тайных переживаний", еще одна популярная книга, написаннпя для жертв, говорит читателям, что жертвы редко говорят, потому что они " боятся возможного физического вреда, который может нанести им самим и другим.” Другой влиятельный исследователь сексуального насилия пишет, что в большинстве случаев (из тех, кого она изучала) жертвам “угрожали самыми ужасными последствиями, если они расскажут.” Как она цитирует жертву по имени Мэгги, чей отец сказал ей, что если она кому-нибудь расскажет, он прикажет ее застрелить. Этот аргумент не очень хорошо подходит к данной литературе, посвященной раскрытию информации, одним из факторов, который постоянно выступает в качестве предыстории того, будут ли жертвы на самом деле сообщать о своих злоупотреблениях, является травма. В тех случаях, когда жертва напугана или, когда происходит насилие или фактическое физическое изнасилование, жертва гораздо более склонна высказываться. Если источником молчания является страх физического вреда, то почему бы самому преступлению, которое на самом деле связано с физическим ущербом, - это те, которые жертвы предпочитают раскрывать? В этом нет никакого смысла.
Согласно тому, что говорят жертвы, это происходит потому, что аргумент неверен. Будучи детьми, они не высказываются, потому что не знают, что должны; они не в состоянии полностью понять смысл или значение деятельности, в которой их просят участвовать. Как я уже говорил, многие могут почувствовать, что в этих действиях есть что-то неправильное, но они не уверены, что именно. Как сказал мне один пострадавший: “В детстве это было как наша тайна. Я не знала достаточно, чтобы оправдать отказ кому-то вроде него, но я знала достаточно, чтобы знать, что я, вероятно, не должна никому говорить ... Я застряла посередине.”
Став взрослыми, жертвы говорят, что не раскрывают свои тайны по разным причинам. Позже в жизни, как я уже говорил, они действительно приходят к пониманию того, что случившееся было неправильным и что они должны были высказаться (и, безусловно, не должны были участвовать). Но так как они молчали и принимали участие, как взрослые, они чувствуют себя ужасно стыдно и виновато. Многие субъекты рассказывали мне, что они боялись, что эти чувства могут подтвердиться, если они расскажут другим,—что они будут обвинены. Джон, плотник, который занимался сексом с учительницей, когда он был мальчиком, сказал: “Что я должен сказать? Правду? Я мастурбировала парню после школы, а потом он давал мне пять долларов? Люди будут думать, что я, более измученный, чем он ... проститутка.” Большинство также выражало беспокойство, что им могут не поверить. Как Клэр, двадцатичетырехлетняя женщина, подвергшаяся насилию в возрасте восьми лет известным педиатром в детском доме - Питал сказал: “Кто мне поверит? Этот человек - герой для стольких людей; он успешен, важен … Кто я? Официантка ... с дипломом и проблемами с алкоголем.” Почти все беспокоятся, что рассказ будет иметь негативные последствия для их жизни: Моя семья будет относиться ко мне по-другому. Это определенно будет очень неловко и повлияет на то, как другие люди смотрят на меня. Если кто-нибудь на работе узнает ... что это сделает с моим партнером Треком в фирме? Большинство жертв страдают от постоянного и всепроникающего чувства вины, изоляции, стыда и аберрации, решите скрыть то, что произошло, а не рисковать тем, что другие подтвердят или усугубят стигму, которую они уже чувствуют. Жертвы боятся высказаться—боятся не за свое физическое, а за свое психологическое благополучие. По словам Росса Чита, профессора Университета Брауна “Несмотря на все эти разговоры о том, что мы являемся нацией, находящейся в состоянии войны с жестоким обращением с детьми, и на всю шумиху в средствах массовой информации ... факт остается фактом: по - прежнему чрезвычайно трудно выдвигать обвинения в сексуальном насилии”. “Эти чувства не имеют никакого смысла”, - сказал коллеге, я недавно. “Почему жертва чувствует, что ей не верят или ее могут обвинить, если в течение последних двадцати пяти лет мы, как общество, были завалены информацией о том, насколько распространено сексуальное насилие и что жертва никогда не виновата?” Это хороший вопрос, и я думаю, что есть хороший ответ. Как я надеюсь прояснить, мы, как общество, были “ознакомлены” с информацией о сексуальном насилии, но речь идет о специфическом типе сексуального насилия, который включает в себя травму. Профессионалы редко обсуждают или подчеркивают явно тип не травматического насилия, которым страдает большинство жертв, опыт—тот, в котором жертвы смущены и доверчивы, не сопротивляются, а заботятся и любят преступников. Как следствие, большинство людей в целом не знают о существовании такого рода злоупотреблений. Вот почему жертвы до сих пор боятся неверия и обвинений. Нераскрытие информации имеет ужасные последствия для жертв. Как подчеркивают два влиятельных клинициста, “Нет ничего мучительнее, чем нести в себе невысказанную историю”.
Исследование известного психолога Джеймса Пеннебейкера также ясно показывает важность эмоционального выражения. Короче говоря, говорит он, описание ужасных переживаний может быть существенно для психологического благополучия. Жертвы должны иметь возможность говорить о том, что произошло, это может иметь решающее значение для их преодоления психологической боли, которую они испытывают после этого. Более того, это является необходимым условием для доступа к услугам в области психического здоровья и может способствовать окончательному успеху или неудаче лечения.
Однако вместо того, чтобы говорить, жертвы сообщают о двух общих механизмах совладания: избегание (попытка не думать о насилии) и подавление (попытка забыть о нем). И мы должны иметь в виду, что подавление отличается от подавления тем, что оно является добровольным и сознательным со стороны жертвы (он или она активно пытается забыть что-то неприятное), тогда как считается, что подавление происходит автоматически и неосознанно. Неясно, является ли на самом деле полезным избегание или подавление. В то время как некоторые исследования показывают, что избегание связано с улучшением психологического здоровья жертв, другие исследования показывают, что люди, которые смогли полностью забыть свои воспоминания в течение определенного периода, на самом деле были менее приспособлены, чем те, кто всегда помнил свои истории жестокого обращения. В большинстве случаях ни избегание, ни подавление невозможны; воспоминания всегда присутствуют. По словам некоторых жертв. То, что случилось, это как темная тень, всегда висит прямо над моей головой. Воспоминания разъедают меня, как раковая опухоль. Вы должны жить с этим. Как маленький противный питомец, которого ты держишь уже много лет. Неспособность избежать мыслей о насилии имеет смысл. Данные указывают на то, что два фактора затрудняют забывание воспоминаний: они имеют отрицательную валентность (они заставляют человека, помнящего, чувствовать себя плохо), или существуют внешние сигналы, запускающие память (существуют напоминания о пережитом). В случаях сексуального насилия обычно соблюдаются оба условия. Очевидно, что память вызывает негативные чувства у тех, у кого есть опыт такого оскорбления. Кроме того, в большинстве случаев преступником является кто-то из членов общины—родственник, друг, учитель, наставник или священник,—и жертвам трудно избегать этих людей, как лично, так и духовно.
Рассмотрим некоторые из следующих комментариев Вика Тимса, с которым я разговаривал:
Его приглашали на каждый праздничный ужин. Мне придется сесть за стол напротив него. После того как он оскорбил меня, его отправили во Вьетнам. Он умер. Каждый год в годовщину его смерти устраивают мессу в его честь. В этом году мой отец сказал о том, каким героем был Джек, как он погиб за свою страну ... В какой-то момент он сказал, что надеется, что мой сын вырастет таким человеком. Мне показалось, что меня ударили в живот.
Некоторые жертвы, с которыми я разговаривал, говорили, что они пытались избежать преступника, но это вызывало негативные ответные действия со стороны других людей. Например, Он появился на вечеринке в честь шестидесятилетия моих родителей ... Просто вошел, как хозяин ... Прошло пятнадцать лет с тех пор, как я его видела. Я ушла. Все были в бешенстве. Мама воскликнула. Как я могу быть такой неблагодарной дочерью? В детстве я старалась избегать отчима, как могла. Однажды, когда моя мать слишком много пила (она любит выпить, так что я думаю, можно сказать, что большую часть времени), она сказала вот почему он оставил ее из-за меня, потому что мне он никогда не нравился. . . . Она говорила как я могла сделать это с ней, почему я не подумала о ней. Хуже всего было то, что я думала о ней ... Я пыталась защитить ее. Гнев, разочарование, печаль и унижение, которые испытывают жертвы, говоря об этих переживаниях, - это ощутимо. В некоторых случаях эти эмоции накапливаются до такой степени, что становятся в некотором смысле токсичными.
Недавно ко мне обратилась семья человека по имени Джон. Месяц назад Джон был на вечеринке со своим маленьким сыном. В какой-то момент вечером появился дядя Джона, которого Джон не видел с тех пор, как двадцать лет назад изнасиловал Джона. Избегая дядю большую часть вечера, Джон вошел в кухню и обнаружил своего сына у Джона на коленях. Они шептались и смеялись. “Это было именно то, что он имел обыкновение делать. В приступе слепой ярости Джон выхватил пистолет и выстрелил дяде в грудь. Я определенно не оправдываю такое поведение. Поступок Джона был непростителен. Его ярость не только привела к смерти, но и, несомненно, психологически повредила его сыну, возможно, на всю жизнь. Тем не менее, сама ярость была понятна. После стольких лет секретности и молчания, безадресного стыда, вины, отвращения к себе, разочарования, беспомощности и несправедливости, тлеющих вдали, в таких условиях огненная буря эмоций, возможно, была неизбежна.
Негативные последствия молчания простираются далеко за пределы жертв. Поскольку подавляющее большинство преступлений никогда не сообщается, подавляющее большинство преступников остаются неопознанными и безнаказанными. Вместо этого, согласно последовательному массиву данных, они часто совершают подобные действия с другими детьми. Как сказал мне бывший учитель начальной школы, ныне обвиняемый в совершении преступления сексуального насилия во время недавнего исследовательского интервью: “Это хорошее преступление для людей с отклоняющимися типами. По сравнению со многими другими преступлениями, у вас есть хорошие шансы получить, когда я отметил иронию этого заявления (в конце концов, он был в тюрьме), он быстро ответил:” О, я знаю. Мне действительно не повезло. —Судя по имеющимся данным, он прав - он был одним из немногих, кто действительно отбывает срок за свои преступления. Учитывая важность высказывания, как для жертв, так и для общества в целом - неудивительно, что многие специалисты в области психического здоровья и клиницисты в области сексуального насилия специально поощряют жертв к “повторному обращению". Хранят свои разрушительные секреты до конца.”
Как два чрезвычайно влиятельных врача - говорят коварно. . . . Голос - мощный шаг в сторону личного освобождения, исцеления и социального изменения”. С учетом страха и опасения, чтобы не допустить гибели людей от раскрытия, они должны прийти к этому, что они “должны не бояться, не стыдясь как как жертва”.
Мы идеалистически предполагаем, что по мере того, как жертвы становятся способными высказываться, другие люди будут реагировать соответствующим образом, примут и поддержат их. К сожалению, в реальном мире это не так. По словам жертв, когда они высказываются (чаще всего перед членами семьи), неизменно возникают следующие три реакции.
Я сказала маме ... Мое сердце бешено колотилось. Когда я закончила, она сказала, что этого не было, что я все выдумала. Я была потрясена. Я сказала: “Зачем мне все это выдумывать?” Она сказала: “Может быть, ваш психотерапевт внедрил в вашу голову какие-то странные идеи ... ” Она просто повторяла снова и снова, что этого не произошло, этого не произошло. В конце концов, я просто подумала: “Почему ты так уверена?” - Потому что я твоя мать, и я бы знала.”
Жертвы особенно часто сталкиваются с неверием в случаи, когда преступник кажется заслуживающим доверия, перспективным и успешным. По словам одной из жертв, “Они сказали, что такой человек не сделал бы ничего подобного.” Жертвы также склонны сталкиваться с отрицаниями в тех случаях, когда есть задержка в раскрытии, длительный период между тем, когда произошло насилие, и когда они действительно сообщили об этом: “Моя мать постоянно спрашивала одно и то же: "Если это произошло, почему вы так долго ждали, чтобы рассказать кому-нибудь?’” Специалисты в области сексуального насилия пытались преодолеть эту проблему, популяризируя теорию, что жертвы часто так долго ждут, чтобы сообщить о своем насилии, потому что они подавили его; в детстве насилие было настолько травматичным, когда оно происходило, что их разум стирал воспоминания как форму психической защиты. Как сказала Сандра, стюардесс: "Я не помнила об этом, пока не пошла на терапию. Я сказал ему [терапевту] это потому, что я думаю, я просто не думала об этом, пока он не спросил меня о злоупотреблении. . . . Но он сказал, что причина, по которой я не думаю. О, потому что это было так травматично, когда это случилось, что мой маленький ум заблокировался. Во всяком случае, это то же самое говорит и адвокат, который ведет мое дело.” Однако, как я уже объяснял, большинство исследований показывают, что чем травматичнее событие, тем больше вероятность того, что оно запомнится. Далее, нет четких нейробиологических доказательств того, что вытеснение (ум немедленно и автоматически стирает память) вообще возможно. Как следствие, многие ученые и исследователи сомневаются в том, что репрессии действительно существуют, и громко высказываются против этой веры в популярных книгах и выступлениях в средствах массовой информации. Таким образом, использование травматологами репрессий в качестве объяснения для жертв обычная задержка в раскрытии информации, и как способ повысить правдоподобность рассказов жертв, мало что дала реальным жертвам.
Даже если жертвам верят, многих потом обвиняют в жестоком обращении. Опять же, собственные слова жертв лучше всего подчеркивают этот ужасный результат раскрытия: Они сказали, что если это случилось, я, должно быть, сделал что-то, чтобы поощрить это ... Я был, как, что может быть Что я сделал? Мне было восемь. Они сказали ... Я всегда бегал за ним, чтобы привлечь внимание, ходил за ним повсюду, как щенок. С другой стороны, люди верили мне ... и были очень злы на него. Но хуже всего было то, что они тоже злились на меня. Они говорили: “Почему ты это допустил? Как ты могла никому не рассказывать так долго?” Подтекст был довольно ясен ... На самом деле они не вышли и не сказали этого, но было ясно, что они думали, что я тоже заслуживаю некоторой степени вины. Сначала я рассказала сестре. Я подумал, что, может быть, это могло случиться и с ней в ее спальне рядом с моей; мы были рядом друг от друга ... Она сказала, что это не случилось с ней, и она была явно возмущена ... Она спросила меня, как я могла сделать такую вещь? Мои родители спросили меня: “Если это случилось, почему ты никому не сказала? С чего бы это ты так долго ждала?” В основном тот факт, что я так долго ждал, чтобы рассказать кому - нибудь, был воспринят как доказательство того, что мне это, должно быть, понравилось или что-то в этом роде.
Феминистки и другие защитники жертв сексуального насилия в 1970-х годах хорошо знали, что в нашей культуре существует распространенная тенденция обвинять детей—как в литературе, так и в реальном мире. На самом деле, все это восходит к библейской истории Лота: “Приди, напоим отца нашего вином, и ляжем с ним, чтобы пред уготовить семя отца нашего. И напоили отца своего вином в ту ночь; и вошел первенец, и лежала с отцом ее, и он не видел, ни когда она легла, ни когда встала”. В "Лолите", знаменитом вымышленном рассказе Владимира Набокова о сексуальных переживаниях мужчины средних лет с молодой девушкой, очевидно, именно ребенок инициирует сексуальную активность. - Я думал, что пройдут месяцы, а может быть, и годы, прежде чем я осмелюсь открыться Долорес. Дымка, но к шести она уже полностью проснулась, а к шести пятнадцати мы были формально любовниками. Я собираюсь рассказать вам кое - что странное; это она соблазнила меня”.
- Она прижалась губами к моему уху, но на какое—то время мои губы замерли, разум ЖЕРТВЫ, не мог отделить в словах её горячий гром шепота ... Постепенно странное чувство жизни в совершенно новом, безумном новом мире грез, где все было дозволено, охватило меня, когда я понял, что она предлагала.”
Как показывает Набоков, смущается взрослый, а не ребенок. Когда он колеблется, она забирается на него и говорит: “Хорошо, с этого мы и начнем”.
Вот слова Лоретты Бендер, выдающегося исследователя в области сексуального насилия над детьми, начиная с 1937 года: “Эти дети, несомненно, не заслуживают полностью того покрова невинности, которым их наделили моралисты, социал - реформисты и законодатели. Часто мы рассматриваем возможность того, что ребенок мог быть настоящим соблазнителем, а не невинно соблазненным”.
На самом деле, эта тенденция приписывать вину жертвам, возлагать часть или все моральное порицание за эти преступления на ребенка, была главным стимулом общественного движения феминисток и защитников благополучия детей, начавшегося в 1970-х годах. К сожалению, он все еще жив и сегодня. Большинство исследований, посвященных приписыванию вины, показывают, что виновность по — прежнему распределяется между ребенком и преступником. По данным ряда исследований, опубликованный в 1990-х годах (проводился с использованием различных типов испытуемых, включая реальные случаи сексуального насилия), только 12 процентов испытуемых, подвергшихся рассказам о сексуальном насилии, считали преступника полностью ответственным. Особенно обескураживает эта информация то, что даже люди в юридической, криминальной и психиатрической областях вряд ли приписывали полную вину преступнику. По словам одного эксперта, Ребекки Болен, “Последовательность фактора жертвы-вины... предполагает, что некоторые специалисты все еще считают жертву частично ответственной ... Далее вызывает озабоченность тот тип поведения, который демонстрирует ребенок (то есть считается ли ребенок поощряющим, пассивным или сопротивляющимся во время жестокого обращения), связан с присвоением ответственности”.
Следующие часто задаваемые вопросы охватывают аспекты сексуального насилия, которые другие люди считают особенно мощными индикаторами виновности ребенка:
Почему ребенок не сказал "нет"?
Почему это происходило несколько раз?
Почему ребенок никому не сказал сразу после того, как это случилось?
Почему ребенок продолжал заботиться о преступнике?
В тех необычных случаях, когда жертвам удается поверить и не обвинить их, значение последствий жестокого обращения сводится к минимуму или упускается из виду. Жертвы сообщали, Мой отец сказал: “В чем дело? Значит, он играл с твоим ху-ху ... Какой в этом вред ? ... Просто отпусти это.” Можете ли вы поверить, что они действительно смеялись? ... Моя мать сказала, что знает, что в этом летнем лагере было что-то странное ... Моя мать сказала: “Что ты хочешь, чтобы мы сделали с этим сейчас? Позвонить? Здравствуйте, я хотел бы сообщить о минете, который был сделан в 1979 году. Один из ваших советников был извращенец?” Они, казалось, думали, что это действительно смешно. Мы встретились в кабинете моего психотерапевта. Она хотела убедиться, что существует благоприятная среда ...
Они прислушались. Они поверили мне, но также дали понять, что не считают это слишком важным, например, какой смысл поднимать этот вопрос сейчас? Почему мы должны пересказывать то, что случилось так давно? Я сказала родителям ... Но они больше никогда не говорили об этом. Как будто этого и не было. Сообщение для меня было ясным—не поднимать эту тему ... Они все еще приглашают его на семейные мероприятия; он по-прежнему является частью семьи. Так что либо они мне не верят, либо им все равно. Согласно исследованиям, проведенным психологами, изучающими реакцию присяжных на случаи сексуального насилия в судебной системе, эта тенденция к минимизации важности сексуального насилия является распространенной—особенно в тех случаях, когда насилие не связано с применением силы или насилия. Случаи жестокого обращения, связанные с кровью и болью, изнасилованием и пытками, гораздо чаще вызывают сочувственные реакции, чем те, которые наиболее точно отражают то, что происходит на самом деле. Как юрист, который работает в юридической фирме, которая представляла интересы жертв жестокого обращения, сказали мне во время анонимного интервью: “Наш долг-выяснить, чтобы изобразить реальное дело о жестоком обращении как можно более ужасным способом—превратить то, что может быть воспринято как безобидное событие, во что-то, что заставит присяжных ахнуть от шока. Священник дотронулся до задницы мальчика? Да. Но не говори так. Вам нужно сказать "повторное анальное растление".... Девушка несколько раз касалась своих гениталий соседом? Скажем, назовите это "множественными сексуальными нападениями" ... что-то в этом роде. Это то, что привлекает внимание и симпатию. Именно это и наказывает преступника.”
Жертвы опыта, все три реакции—отрицание, виноват, а минимизация—в то же время: “во-первых, она сказал, что это не произошло, я сам это выдумал. . . . Затем она подумала об этом некоторое время она сказала, что если это сделал может, она бы знала. . . . Потом она вернулась ко мне и сказал, что я сделала, чтобы поощрять то, что он был хороший человек, что я сделал? Потом она сказала: "Ну, мне кажется, ты в порядке. Должно быть, все было не так уж плохо. Давай больше не будем об этом. ” Такие реакции могут быть разрушительными для жертв. Их разрушительные чувства вины, стыда, предательства, беспомощности и разочарования не только подтверждаются, но и они усиливают. В самом реальном смысле человек становится жертвой дважды: сначала преступника, а затем тех, к кому он обращается за помощью.
В 1979 году Флоренс Раш писала, что “обнаружила, что жертвы были так же шокированы и встревожены отсутствием сочувствия и признания проблемы, как и самими случаями сексуального насилия”. Я не думаю, что многое изменилось.
Все жертвы, участвовавшие в моем исследования задали тот же вопрос в конце, наша совместная работа: что было худшей частью домогательств? Те, кто сообщил о насилии, еще до нашего интервью всегда давал тот же ответ. Худшая часть сексуального насилия была как отреагировали другие люди. Согласно одному недавнему исследованию, первому исследованию психологического воздействия раскрытия информации на жертв, интенсивность негативных эмоций, испытываемых некоторыми жертвами в процессе раскрытия информации, может фактически вызвать посттравматическое стрессовое расстройство в последующий период.
Исследователи не сосредотачиваются исключительно на повреждениях; некоторые концентрируются на устойчивости (почему некоторые жертвы могут выйти из сексуального насилия невредимыми, в то время как другие разваливаются). Оказывается, существует обратная зависимость между психологическим ущербом и социальной поддержкой. Чем больше ПОДДЕРЖКИ жертвы получают от других (вера, забота, сочувствие, внимание), тем менее негативны психологические последствия.
Социальная поддержка со стороны матерей становится одним из наиболее мощных предикторов исхода. В этом, пожалуй, нет ничего удивительного. В 1956 году Гарри Харлоу опубликовал классическую статью “Любовь в младенческих ключах” в журнале Scientific American. Харлоу отделил детенышей обезьян от их матерей и посадил их в клетки с искусственными матерями. Детям давали на выбор фальшивых матерей. Одна была сделана из проволоки с резиновой соской, которая давала молоко ребенку. У другой не было соска, но она была сделана из мягкой ткани. Обезьяньи дети явно отдавали предпочтение матерчатой матери, хотя этот выбор приводил к недоеданию. Они цеплялись за нее, особенно когда устали и испугались. Харлоу предположил, что обезьяны были мотивированы потребностью в большем эмоциональный комфорте и безопасности, чем в еде.
В последующих исследованиях, появились сведения, что свидетельствует, что это не только социальная поддержка важна для детей обезьяны, но при ее отсутствии, когда эмоциональное лишение произошло, обезьяны были повреждены— может формирование образа связано, со склонностью к тревоги и агрессии, когда не в состоянии заботиться о своих собственных младенцах, когда они сами станут матерями.
Подобные исследования имеют очевидные последствия для потребности человека в социальной поддержке. Джон Боулби обратил внимание на фундаментальную роль привязанности и поддержка у людей после того, как он наблюдал ущерб, наносимый детям эмоционально забытыми родителями. Как считают теоретики объектных отношений, привязанность между детьми и их опекунами имеет решающее значение для психологического здоровья. Дети (в любом возрасте) нуждаются в близких, нежных и надежных отношениях со своими опекунами. Благодаря этому они получают защиту, признание и принятие, которые необходимы для развития их чувства собственного достоинства, безопасности и идентичности.
Когда такая связь не предусмотрена, тем более во время эмоционального кризиса для ребенка разрушаются системы поддержки. Это может оказать огромное влияние на эмоциональное развитие ребенка, его самооценку и последующие отношения с окружающими. Другими словами, не поддерживающие реакции, особенно со стороны опекунов, как считают жертвы и поддерживают исследования, могут быть психологически разрушительными.
То, что жертвы нуждаются и хотят от других, по их собственным словам, очень просто—признание и сочувствие:
Я просто хочу, чтобы это признали, чтобы услышали:
“Да, я верю тебе.”
Почему они не могут просто признать, что это произошло? Меня не волнует, попадет ли он в тюрьму; я просто хочу, чтобы люди знали, что это произошло, чтобы, наконец, это признали, а не скрывали. Самое сильное, что может сказать мне человек, - это так просто. Мне очень жаль, что так получилось.
Джоанель была одной из немногих жертв, с которыми мне посчастливилось поговорить, и ей посчастливилось получить правильный ответ от своей матери. Она сказала мне: “Я просто высказала это. И как хороша была ее реакция. Она посмотрела на меня с такой грустью и заботой и сказала:
Это было невероятно, сколько эти три простых слова значили для меня:” По словам Джозефа, другой жертве посчастливилось получить поддерживающую реакцию“, - после того как я сказала ему об этом, он обнял меня. Он продолжал целовать меня в голову и говорить: "Мне так жаль, мне так жаль ..." Мне было ясно, что это не моя вина и что я поступила правильно, сказав ему ... Он справился с этим, я думаю, очень хорошо ... Я думаю, что это одна из причин, объясняет сегодня, почему я вышла невредимой ... Если что-то и сделало меня сильнее.”
УЧИТЫВАЯ ЗНАЧЕНИЕ социальной поддержки для психологического здоровья жертвы, важно рассмотреть причины, по которым так много людей не поддерживают жертв - почему столь вероятны такие разрушительные реакции, как отрицание, обвинение и минимизация.
Я думаю, что многое из этого восходит к одному и тому же феномену: мифу о травме. После тридцати лет внушения идеи о том, что сексуальное насилие - это травматический опыт, когда оно происходит, у других, кроме жертв, есть неверные представления о нем. Сегодня большинство людей недостаточно хорошо понимают уникальную природу сексуальное насилие над детьми, лежащая в его основе динамика и вероятные реакции жертв. Подумайте еще раз о том, как часто мы реагируем на рассказы жертв, подобные тем, с которыми я сталкиваюсь каждый день:
Ну и почему парень никому не сказал?
Если это случилось, то почему не было ни следов, ни синяков?
Господи Иисусе, она позволила этому случиться целых два года?
Должно быть, ей что-то нравилось.
Да ладно, зачем какой-то жертве ждать пятнадцать лет, чтобы рассказать? Может быть, они получили эту идею, наблюдая за деломи в новостях — вероятно, они тоже могли бы заработать долларов.
Простите, но почему такая мелочь вызывает столько психологических проблем? Я не могу отделаться от мысли, что он, должно быть испорчено в первую очередь?
Если бы люди понимали правду о сексуальном насилии, ни один из этих вопросов никогда не был бы поднят. Учитывая сложную динамику нарушения—возраст жертвы, тот факт, что преступник является тем, кому он доверяет, и что сила или насилие редко применяются,— неудивительно, что жертвы соглашаются с этим и не говорят об этом в течение многих лет. На самом деле, это имеет смысл. И учитывая тот факт, что психологический ущерб, причиненный сексуальным насилием имеет мало общего с чем-либо травмирующим, когда он произошёл (сила, насилие или угроза), у людей нет причин связывать их.
Но большинство не знает этой информации. Стоит ли удивляться, что так много людей реагируют с недоумением, недоверием и, возможно, даже склонностью обвинять жертв?
Ничто из того, что говорит жертва, не имеет ни малейшего сходства с “обычным и разрушительным преступлением”, которое описывали профессионалы, а все остальные понимание на протяжении многих лет. Ситуация трагически иронична. Выделяя травму—тем самым подчеркивая особенности, редко встречающегося типа насилия—многие специалисты по психическому здоровью, выступающие за то, чтобы жертвам верили и поддерживали, а не обвиняли или сомневались, способствуют созданию условий, которые в первую очередь ведут к отрицанию, обвинению и минимизации.
ОДНА ИЗ МОИХ ГЛАВНЫХ ЦЕЛЕЙ здесь-привлечь внимание к тому факту, что доминирующая профессиональная модель, лежащая в основе большинства исследований, программ и политики в отношении сексуального насилия над детьми, модель травмы, неверна. Я определенно не первый человек в этой области, который критикует это, появились и другие специалисты, которые стали оспаривать различные аспекты теории. Но нет никаких свидетельств того, что их слышат.
Как мы знаем, одна из причин коллективного сопротивления изменению модели травмы заключается в том, что она способствовала мобилизации интереса ЖЕРТВ к теме сексуального насилия. Она породила миллиардную индустрию медиа искусственных профессионалов, ученых, издателей и политиков, которые превратили сексуальное насилие из захолустной социальной проблемы в серьезную социальную, медицинскую и юридическую проблему. Но как я уже показал, что социальное внимание, которое генерирует модель, не привела к значительному прогрессу для жертв. Как такое положение дел возможно? Это следствие того, что теория не опирается на эмпирическую базу знаний. Упуская из виду, недооценивая или не осознавая правду о сексуальном насилии, мы оказываем давление на жертв, подавляем знание о существовании этих преступлений, снимаем с крючка преступников и в конечном счете способствуем продолжению тех самых преступлений, с которыми мы якобы пытаемся покончить.
В 1977 году ФЛОРЕС РУШ писал,
В результате существующих профессиональных теорий, окруженных научной аурой, жертвы эффективно замалчиваются ... Любая попытка со стороны ребенка разоблачить нарушителя также разоблачает ее собственные предполагаемые врожденные сексуальные мотивы и стыдит ее больше, чем преступника ...
Дилемма сексуального насилия над детьми обеспечила систему надежного эмоционального шантажа; если жертва обвиняет насильника, она также обвиняет себя. Ребенку не предоставляется никакой защиты, в то время как преступнику разрешается и дальше потакать своему пристрастию к детям. Что изменилось тридцать лет спустя? Сексуальное насилие до сих пор остается самым тщательно хранимым секретом в мире.
Эта книга начиналась с простого вопроса: почему опыт сексуального насилия, описанный виктимами, так отличается от того, как профессионалы изображают и передают его более широкому населению?
Сначала, как я описал в главе ранее, меня заставили поверить, что в мужчинах и женщинах, приходивших ко мне поговорить, должно быть, было что-то необычное, чем они отличались от большинства, что я случайно обнаружил группу жертв сексуального насилия, чей опыт не соответствовал опыту большинства. Но это оказалось не так. Там ничего не было “неправильно” с испытуемыми, которых я опрашивал; их реакция на насилие как в то время, когда оно произошло, так и позже в жизни была удивительно похожа на реакцию большинства жертв. Однако есть что-то неправильное в том, как многие профессионалы понимают сексуальное насилие; доминирующая концептуализация преступления, лежащая в основе большинства исследований сексуального насилия, а также как теоретизирование, так и культурные стереотипы о предмете, не соответствует действительности. Как я пришел к выводу, хотя некоторые случаи сексуального насилия, безусловно, травмируют, когда они происходят—ребенок в ужасе или в боли; задействована сила или насилие — подавляющее большинство нет. “Травма” просто не является хорошей характеристикой реальности сексуального насилия. Очевидно, это открытие привело меня в замешательство. Меня учили, что психология-это наука и что цель науки-основывать теории на данных. Тем не менее, концепция травмы была настолько центральной в нашем понимании сексуального насилия, что считается, что она является причиной психологического ущерба, который так много жертв переносят в последствии. Как эта теория может быть правильной, если сексуальное насилие редко является травматическим опытом для виктимов? С другой стороны, как хорошо известно историкам и философам науки, ученые часто ошибаются. Как известный гарвардский психолог Ричард Макнелли пишет: “Многие из величайших ученых в истории приняли идеи, которые явно квалифицируются как псевдонаучные, по крайней мере, по сегодняшним стандартам. Не только ранние современные астрономы были астрологами, но и научными пионерами, такие как Бойль, Лейбниц и Ньютон, доверчиво проглатывали всевозможные причудливые истории о мире природы, похожие на те, что фигурировали в таблоидах продается сегодня в кассах супермаркетов.” Это был бы не первый случай, когда поле поддержки теорий, которые позже оказалась ошибочны. На самом деле ошибки являются частью науки; практикующие должны признать, что ошибки совершаются, учиться на них и продолжать строить лучшие теории для объяснения изучаемых ими явлений.
Как сказал Карл Саган, “Наука-это больше, чем совокупность знаний; это способ мышления ... Она определяется ее страстью к созданию проверяемых гипотез, в ее поисках окончательных экспериментов, которые подтверждают или опровергают идеи, в энергичность его предметных дебатов и его готовность отказаться от идей, которые были признаны недостаточными”.
Я наивно полагал, что если бы люди столкнулись с данными, противоречащими концепции травматического сексуального насилия, они захотели бы пересмотреть свои взгляды. Но, как я понял, это легче сказать, чем сделать. С конца 1970-х годов горстка ученых открыто утверждала, что травма не является хорошей характеристикой большинства сексуальных злоупотреблений, что эта теория не подходит для эмпирических исследований. Проблема не в том, что большинство специалистов в области сексуального насилия не знают, истина заключается в том, что многие, кажется, не заботятся об этом. Как Маргарет Хаган, клинический психолог из Бостонского университета, говорит, что травматическая концептуализация сексуального насилия “показала себя крайне устойчивой к фактам, выявленным за двадцать лет исследований.” В лучшем случае информация, противоречащая теории травмы, сводится к минимуму или игнорируется. В худшем случае на него нападают (вместе с теми, кто обращает на него внимание). Я хорошо усвоил урок. Когда я впервые опубликовал исследование, демонстрирующее, что сексуальное насилие не всегда является травматическим опытом жертвы—что большинство жертв описывают чувство растерянности и, как следствие, часто подчиняются просьбам своих преступников—меня называли другом педофилов или даже самим педофилом. Это было ужасно. Однако мой опыт не шел ни в какое сравнение с тем, что происходило с другими людьми, которые также высказывали свои опасения по поводу того, как неправильно воспринимается насилие. Десять лет назад Брюс Ринд, профессор Темплский университет и его коллеги опубликовали статью в престижном журнале Psychological Bulletin, в которой утверждали, что сексуальное насилие не сразу и непосредственно приводит к вреду. Последовал профессиональный и общественный гнев. Американская психологическая ассоциация призвала к отказу от статьи, а общественные деятели, такие как доктор Лора и Раш Лимбо, атаковали авторов за проведение “мусорной науки” и за желание ” сексуализируйте наших детей, нормализуйте педофилию ". Даже было вынесено фактическое осуждение Конгресса, в котором этот орган единогласно проголосовал за унижение статьи за предполагаемые моральные и методологические недостатки.
На основе независимой оценки результатов исследования по данным Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS), их не было. На самом деле AAAS резко упрекнул критиков за искажение статьи в средствах массовой информации и за неспособность понять методы, которые они критиковали. Вы не можете оспорить травматическую концептуализацию сексуального насилия из-за глубоко укоренившейся догмы, которая преобладала в кругах психического здоровья и политики с конца 1970-х годов-отказ от любой информации, которая подчеркивает участие детей в этих преступлениях или их соответствие этим преступлениям, и неустанное предпочтение информации. Это связано с пугающей, насильственной, и угрожающей природой сексуального насилия.
Наша аллергия на правду - это результат трех широко распространенных, стойких и мощных заблуждений, которые исторически препятствовали постоянному общественному вниманию к теме сексуального насилия.
Во—первых, если жертва соглашается на сексуальное насилие—не сопротивляется навязанным ей сексуальным действиям-большинство полагает, что насилие частично является виной ребенка. Это, как я подробно обсуждал ранее, нелепо. Признать, что дети обманывают - это не исключает признания в первую очередь тех факторов развития и когнитивных факторов, которые приводят к такому согласию. Дети не должны нести ответственность за свою незрелость в развитии. Сегодня, как хорошо известно когнитивным психологам, большое количество доказательств показывает, что дети не способны понимать сексуально окрашенные встречи так же, как взрослые. Учитывая обстоятельства, в которые их поставили преступники, было бы неразумно ожидать, что они будут действовать иначе. Многие, если не большинство, дети в конечном итоге позволяют злоупотребление, должно иметь место; указание на это никоим образом не снимает с виновного никакого позора за эти преступления.
Во—вторых, широко распространено мнение, что если сексуальное насилие не является травматическим переживанием, когда оно происходит, оно не причинит вреда жертвам-что “отсутствие травмы” во время насилия означает “отсутствие вреда” для жертвы в дальнейшей жизни. Это тоже грубое заблуждение. Сексуальное насилие не может быть ужасным зрелищем для большинства жертв, когда оно случается, но оно, безусловно, может стать таковым позже в жизни. Как я подробно обсуждал в главе ранее, жертвы в конечном итоге, поймут природу того, что с ними произошло, и переосмыслить их ранее неоднозначные переживания так, какими они были - явно сексуальными по своей природе.
Что причиняет боль большинству жертв, так это не сам опыт. Но смысл переживания—как жертвы осмысливают то, что произошло, и как это понимание заставляет их чувствовать себя по отношению к себе и другим и, следовательно, влияет на их эмоции и поведение. Короче говоря, событие не обязательно должно быть травматичным, когда оно впоследствии причиняет вред. Именно ретроспективная интерпретация события опосредует последующее воздействие.
В-третьих, среди многих людей существует тревожная тенденция отождествлять противоправность с вредностью. Таким образом, если сексуальное насилие не было травматичным для жертв, когда оно произошло, если оно не сразу и непосредственно причинило вред, многие люди делают вывод “и ошибаются.” Сексуальное насилие - это очень неправильно, независимо от того, как оно влияет на жертв. Как писала блестящий социальный психолог Кэрол Таврис, “Преступное деяние остается преступным деянием, даже если жертва выздоравливает”. Если бы меня ограбили и это не было травматическим переживанием в то время, означало бы это, что преступления не произошло? Ни в коем случае. Что такое ошибка в ограблении заключается в том, что человек сделал то, чего не должен был. Не имеет значения, как я отреагировала. Именно природа действия делает его неправильным, а не последствия. Точно так же именно акт сексуального насилия, а не ущерб, который он причиняет, делает его неправильным. Пришло время выработать более сильную этическую позицию по этому вопросу, менее зависимую от презумпции о вреде в большей степени зависит от предпосылки о том, что поступок по своей сути является подлым и несправедливым по отношению к ребенку. Взрослые сознательно пользуются невинностью и доверчивостью детей, неспособные обеспечить полное и осознанное удовлетворение в целях сексуального удовлетворения взрослых.
Перефразируя известного психиатра Джудит Герман, истинный ужас сексуального насилия заключается не в половом акте, а в эксплуатации детей теми самыми людьми, которым они доверяют свою защиту. Сексуальное насилие вредно и неправильно, и это не вина жертв. Тем не менее, все мы склонны к когнитивному консерватизму: когда у нас есть убеждения, которые нам нравятся, которые имеют для нас смысл и, по - видимому, хорошо служат нам, мы очень устойчивы к их изменению даже перед лицом очевидных проблем и противоречивых свидетельств. Сегодня большинство профессионалов и защитников других жертв не задумываются глубоко или скептически о том, как они изображают сексуальное насилие, потому что они считают, что травматическая концептуализация сексуального насилия на самом деле помогла жертвам. Обрамление сексуального насилия было эвристикой, которая позволяла жертвам, чтобы аккуратно обойти или обойти необходимость систематического рассмотрения этих заблуждений. Это помогло быстро мобилизовать всеобщее внимание на вредность и противоправность преступления. Поскольку широко распространено мнение, что это внимание было соизмеримо. Многие профессионалы сегодня не заботятся о том, что концепция травмы неверна. Любой вызов ей угрожает прогрессу, которого, по мнению адептов, они достигли. Но, как я уже спрашивал ранее в этой книге, какого прогресса мы добились в отношении жертв? Согласно рассказам жертв, которые я описал в этой книге, и статистике населения в целом, они все еще страдают, их по прежнему заставляют замолчать всепроникающие чувства вины и стыда, большинство преступлений не регистрируется, большинству преступников не предъявляются обвинения, а дети продолжают подвергаться насилию с поразительно высокой частотой. Согласно самым последним результатам группы экспертов, созванной престижным Национальным исследовательским советом, никакого явного прогресса не наблюдается, было сделано в этой области с точки зрения определения, лечения, выявления или предотвращения сексуального насилия. И, как следствие, здоровье и благополучие детей, подвергшихся насилию, и их семей оказываются под угрозой. Учитывая, что упрямый и стойкий миф о травме использовался для формирования предположений, лежащих в основе политики и программ, разработанных для лечения и предотвращения злоупотреблений, такое отсутствие прогресса неудивительно. Как мы можем понять или извлечь уроки из того, что мы отказываемся признавать? Совет, как гласит старая пословица, лучше всего основана на истине. Это только на основе точной информации относительно динамики и характеристики сексуального насилия, с помощью которых профессионалы могут выработать эффективные меры профилактики и лечения.
Мало того, что наши убеждения не помогают жертвам (на самом деле, они, возможно, причиняют им еще больший вред), но мы тратим огромные суммы денег. Подумайте о миллиардах долларов, потраченных на финансирование исследований, программы лечения и профилактические инициативы, растраченные на сексуальное насилие, которое вряд ли произойдет. Еще страшнее то, что чем больше денег мы тратим на попытки понять, лечить и предотвращать экстремальные случаи сексуального насилия, тем больше денег мы тратим на попытки понять, лечить и предотвращать экстремальные случаи сексуального насилия и меньше средств, выделяемых на реальные нужды—профилактику и лечение случаев более вероятных.
Только в этом году тысячи детей будут подвергнуты насилию. Из-за мифа о травме родители будут не готовы защитить их, а жертвы будут не готовы защитить себя или сообщить об этих преступлениях. Если они раскроются, другие будут не готовы поверить им или отреагировать соответствующим образом, а преступники будут продолжать уклоняться от правосудия и совершать новые злодеяния. Мы должны перестать тратить деньги, время и энергию на мифы, которые в значительной степени опасности жестокого обращения и направьте его вместо этого на защиту детей от реальных опасностей, с которыми они, вероятно, столкнутся. Чтобы действительно помочь жертвам, наши теории должны основываться на эмпирическом знании, а не на предположениях, политике и лжи (как бы благонамеренно это ни было).
Признание правды о сексуальном насилии имеет очевидные последствия для лечения. Вред, психологический ущерб, о котором так много жертв сообщают, будучи взрослыми, не является функцией травмы во время жестокого обращения. Для подавляющего большинства жертв негативные последствия сексуального насилия не связано с какой-либо эмоциональной перегрузкой в момент совершения насилия. Профессионалы помогут для понимания вреда сексуального насилия перестать фокусироваться на признаки злоупотребления и начать исследывания, что происходит с жертвами, после их завершения в частности, познавательной и развивающей правонарушений последствия злоупотребления, то есть, как жертвы умственно оценивают свои переживания (имеет смысл) и как эти оценки связаны с их последующим поведением, самооценки, сексуального и эмоционального развития, и отношения с другими. С помощью этой информации мы можем разработать стратегии для устранения и изменения таких разрушительных оценок с помощью индивидуальной терапии и крупномасштабных кампаний общественной информации. Принятие реальности сексуального насилия также имеет четкие последствия для того, как семьи и общество реагируют на детей или взрослых, сообщающих нам, что они подверглись насилию. Сначала и прежде всего мы все должны верить жертвам. То, что предполагаемый преступник часто является кем-то, кто кажется заслуживающим доверия и респектабельным, не является приемлемым, что злоупотребление конфабулировано. Далее, тот факт, что между тем, когда произошло преступление, и тем, когда о нем сообщили, прошел большой промежуток времени, также не является показателем того, что оно не произошло. Большинство жертв не сразу переносят жестокое обращение. Они не могут. Из-за характера преступления и уровня их развития, в то время, когда оно произошло, они не поймут природу того, что произошло, до более позднего возраста. Кроме того, как только они поймут это, они все равно могут не сообщить об этом. Отчасти из-за мифа о травме многие жертвы подозревают, что случившееся с ними могло быть их виной. Выбор верить жертвам имеет значительные правовые последствия. Сегодня большинство государств ограничивают сроки возбуждения уголовного преследования по делам о сексуальных преступлениях в отношении детей. Например, во многих штатах, как только жертве исполняется восемнадцать лет, существует пятилетний срок давности для возбуждения гражданских исков, основанных на заявлениях о сексуальном насилии. Хотя существует много веских причин для ограничения количества времени, в течение которого жертвы в целом должны сообщать о преступлениях (например, достаточна, чтобы защитить подсудимых в делах, в которых время будет ухудшать качество доказательств, необходимых для их судебного преследования), сексуальное насилие над детьми не должно иметь конечного периода отчетности. По сравнению с большинством других преступлений сексуальное насилие является уникальным; это тот случай, когда большинство жертв не поймут, что преступление было совершено, пока не пройдет много времени. Почему бы им не иметь права искать справедливости?
Выделение правды о сексуальном насилии также имеет четкие последствия для дебатов о восстановленной памяти: вопрос о том, могут ли люди забыть, а затем, позже в жизни, вспомнить (или восстановить) свое сексуальное насилие. Ответ, условно говоря, да. Если вспомнившиеся переживания насилия не были травматичными, когда они произошли, жертва, вероятно, должна быть поверена. На самом деле, имеет смысл, что эти переживания могут быть забыты. Почему ребенок должен помнить их, если в то время, когда они произошли, они не были особенно травмирующими? Как я уже подробно говорил, почти всегда наступает период, когда жертва сообщает о недостаточном осознании того, что она подверглась насилию, а затем последовательно переосмысливает этот опыт. Во всех случаях раскрытия первой реакцией со стороны получателя информации является эта новость должна быть верой и поддержкой.
Все это говорит о том, что в тех случаях, когда жертва внезапно вспоминает переживания насилия, которые были объективно или субъективно травмирующими, когда они происходили (они были связаны с болью, ужасом, насилием или силой), тогда возможно, что жертва переживает ложное воспоминание - что переживания насилия, возможно, не было. Как подробно писали Ричард Макнелли и другие когнитивные психологи, нет четких доказательств того, что события, которые были ужасающими, когда они происходили, могут полностью забываться, что человеческий ум способен стереть или изгнать ужасные переживания из сознания. Вообще говоря, чем более трагичным было событие, когда оно произошло, тем труднее человеку, пережившему его, забыть о нем. Аспекты или детали травматических переживаний могут быть забыты или искажены (какое было время суток, где произошло насилие), но не центральная часть (насилие).
Последствия принятия правды о сексуальном насилии в целях профилактики предельно ясны. Большинство профилактических программ сегодня нацелены на детей; они сосредоточены на обучении потенциальных жертв защищать себя и отгонять преступников. Они не очень хорошо работают; действительно, мы видели многие из этих программ в школах сегодня, и дети все еще подвергаются насилию с поразительной скоростью. Концепции и стратегии, которым нужно обучать, слишком сложны с точки зрения развития.
Даже если детей можно научить развивать-рассматривая сексуальное поведение (например, различая “хорошее прикосновение” и “плохое прикосновение”), мы не должны предполагать, что это означает, что они могут действовать на основе этого знания, когда сталкиваются с запутанной ситуацией с человеком. Адекватное реагирование связано не только с социальными рассуждениями, но и со сложностью задачи. Преступники не объявляют: “Я здесь, чтобы прикоснуться к вашим интимным частям”; скорее они маскируют и скрывают сексуальный характер деятельности (например, представляя ее как гигиену) или поощряют ребенка думать о деятельности как о взаимной (“Это то, что делают люди, которые любят друг друга”). Короче говоря, прискорбное сочетание детской когнитивной и развивающейся уязвимости и наличия преступника, который воспользуется возможностью использовать эту уязвимость, делает профилактические программы, ориентированные на детей, в значительной степени неэффективными. Как резюмирует один из экспертов, “Ни оценочные исследования, ни знания о когнитивном и социальном развитии не дают никаких оснований полагать, что образовательные программы сексуального насилия, ориентированные на детей, эффективны. Учитывая, что ситуации, с которыми они столкнутся, скорее всего, будут слишком сложными для того, чтобы они научились их понимать, несправедливо ожидать от них этого.
Мой друг прочитал книгу под названием "Хорошее прикосновение Плохое прикосновение", предназначенную для обучения детей сексуальному насилию. Ее семилетняя дочь понимала каждое слово, и они говорили о том, что означает эта книга. На следующей неделе они пошли к врачу.
У девочки были боли в животе, и ее мать беспокоилась, что это может быть инфекция моче выводящих путей. Доктор попытался осмотреть гениталии ребенка, но она не позволила. Мать расстроилась:
- Милая, он же врач. Он тот, кому ты доверяешь.
“Но, мамочка, - объяснила девочка, - мне это не нравится. Это похоже на плохое прикосновение. Я подавлена.” Ее замешательство имеет смысл. Ее мать тоже была в замешательстве. Как она должна реагировать? Взрослому трудно описать разницу между сексуальными и не сексуальными прикосновениями, между людьми, которые находятся в безопасности, и людьми, которые не находятся в безопасности (и, по моему мнению, это различие невозможно даже в случаях сексуального насилия). Может вы представляете, каково это детям? Насколько вульгарно они должны себя чувствовать? Насколько запутанными становятся ситуации, в которые они так часто попадают? Учитывая это, не удивительно, что большинство существующих программ предупреждения сексуального насилия не работают. Как объясняет один ученый, “Трудно рассматривать эти программы как профилактику. . . . Они в лучшем случае паллиативны”.
Ответственность за защиту детей от сексуального насилия должна лежать не на детях, а на взрослых, которые заботятся о них. И чтобы сделать такую защиту возможной нам нужна твердая как скала информации о сексуальном насилии, о вероятных нарушителях (мужчины дети знают), что, вероятно, произойдет (половых органов, прикосновениях, поцелуях), то, что дети редко сопротивляются (они путаются), то, что не будет никаких объективных признаков или симптомов (сила или проникновение редко), и тот факт, что дети редко жалуются на злоупотребления (по всем указанным выше причинам). Вооружившись этой информацией, мы должны:
1) внимательно наблюдать за нашими детьми, следить за тем, где они находятся и с кем проводят время, и
2) создавать среду, в которой наши дети чувствуйте себя комфортно, разговаривая с нами—когда они готовы поделиться запутанным, смущающим или пугающим опытом, а затем поддержать, когда они это делают.
Будет ли это совершенной, надежной защитой? Нет. У растлителей всегда есть возможность найти способы запятнать жизнь маленьких детей. Но мы значительно снизим вероятность злоупотреблений. Ответственность за защиту детей должна лежать в первую очередь на родителях и других опекунах. В связи с этим некоторые эксперты убедительно выступают за подход общественного здравоохранения к профилактике сексуального насилия.
Такой подход делает упор на государственные образовательные программы, ориентированные на семьи и общины, ориентированные на предоставление информации и изменение отношения и поведения. Используя подходы социального маркетинга, можно было бы разработать “удобные для пользователя”, приемлемые с точки зрения культуры, четкие и понятные сообщения, помогающие людям лучше распознавать случаи сексуального насилия, реагировать на них и вмешиваться в них. Существуют значительные доказательства того, что предоставление такой информации в сочетании с укреплением норм и санкций может играть важную роль в раскрытии преступлений.
В то же время на протяжении многих лет я был свидетелем тревожной и ужасной реальности: многие из нас не хотят сталкиваться с жестоким обращением, которое происходит прямо на наших собственных задворках. С большой убежденностью мы говорим о том, как мы должны разоблачать преступников и наказывать их по высшему разряду. Мы говорим о том, что если бы наш ребенок когда-нибудь подвергся насилию, мы бы сделали все возможное, чтобы предотвратить это катастрофическое событие. Но когда дело доходит до драки, мы отрицаем это. Мы придумываем причины, почему мы не должны этого делать - почему это усложнит дело, если мы сообщим о брате, дедушке или учителе, которому мы пришли и доверили наших детей.
Я слышал, что слишком многие женщины, когда на них давят, признаются, что им было бы трудно отправить своего мужа в тюрьму, если они узнают, что он издевается над маленьким ребенком: “Я знаю, это неправильно, но что вы хотите, чтобы я сделала? Это мой муж. Я люблю его”. Слишком много людей говорят о своих собственных целях и рассматривают последствия высказывания, если что-то произойдет. Мы думаем о своей карьере (“Что подумают люди в моем офисе? Я наконец-то получил повышение”), о людях в наших городах, с которыми мы больше не могли общаться (“Он учительствовал здесь тридцать лет. Все его знают... Он важная часть этого сообщества”), о том, что арест за сексуальное насилие или суд будут во всех газетах (“Я не могла вынести, чтобы наше грязное белье будет разбросано повсюду”). Мы думаем о том, чтобы противостоять нашим собственным худшим страхам: “Неужели другие люди будут думать, что я была плохой матерью? Что с моим ребенком что-то не так? Наша семья?” Многие из нас думают, что жертве могут не поверить и что обвинения может быть трудно доказать: “Действительно ли это стоит того, что мы не хотим думать об ужасе быть, преданными кем-то, кому мы доверяли, о стыде и позоре, которые последуют, если нам придется говорить об этом, или о болезненных разрушениях социальных сетей и жизни.
Таким образом, эти преступления часто остаются окутанными тайной. Конечно, МАЯТНИК убеждений о сексуальном насилии сильно качался на протяжении многих лет, но я понял, что эти различные убеждения имеют больше общего, чем мы можем себе представить. Все они упустили из виду реальность сексуального насилия; они сосредоточили свое время и интерес на типе насилия, который редко существует. Кроме того, они помещают локус вреда, связанного с сексуальным насилием, непосредственно на жертв. Либо они были ослаблены, чтобы быть с ними, либо были непосредственно и немедленно ослаблены из-за эмоциональной перегрузки во время жестокого обращения, из-за нейробиологически токсичным уровням страха и ужаса, которые они испытывали. Причина вреда не имеет ничего общего ни с жертвой, ни с жестоким обращением—семья, профессионалы и общество - все они становятся пассивными зрителями виктимоцентрической теории, которая прямо или косвенно определяет источник проблемы внутри индивида.
Каковы практические последствия такой теории?
Мы не только можем избежать столкновения с сексуальным насилием лицом к лицу, но и не должны чувствовать себя плохо из-за этого. То, что наносит ущерб жертвам, не имеет к нам никакого отношения; виновность всецело зависит от обстоятельств, находящихся вне нашего контроля, обстоятельств, за которые мы не несем ответственности.
Джон Кеннет Гэлбрейт, блестящий экономист, писал: “Люди ассоциируют истину с условностью, с тем, что наиболее тесно связано с личными интересами ЗАМКНУТОСТЬ и личное благополучие, то, что лучше всего избежать неловких ситуаций или нежелательного в жизни. Мы находим в высшей степени приемлемым то, что больше всего способствует личной самооценке. Нам нравится верить не в то, что истинно, а в то, что просто, удобно, удобно и Конечно, сексуальное насилие-это совсем не то. Не лучше ли не знать? Отрицая истину и сосредотачиваясь на ложных теориях, мы можем чувствовать себя хорошо, что делаем что-то с преступлением, но на самом деле нам не нужно противостоять ему.
В книге "Культура страха" Барри Гласснер исследует, почему мы боимся того, чего не должны бояться. Например, мы все боимся смерти. Так почему же мы не беспокоимся о том, от чего на самом деле можем умереть—например, от болезни сердца? Вместо этого мы часто фокусируем наше беспокойство - и деньги, и внимание, и время—на маловероятных угрозах (таких как террористические атаки).
Гласснер убедительно доказывает, что психологически это служит очень важной цели для нас: это позволяет нам понимать наши страхи и чувствовать себя морально в норме, как будто мы заняли свою позицию, делать что-то, вести себя как заботливые и соответствующие специалисты и граждане, на самом деле приходиться столкнуться напрямую с реальными вещами, которые беспокоят нас или принять на себя ответственность делать что-нибудь это.
Тридцать лет назад феминистки - первопроходцы и защитники прав детей были возмущены отказом профессионалов о правде о сексуальном насилии, утверждали, что существует и ведется сокрытие того, что профессионалы, стремящиеся уйти от ответственности, скрывают реальность распространенности и вредности сексуального насилия. Во многих отношениях я думаю, что эти ранние феминистки были правы, и люди в областях, специализирующихся на сексуальном насилии, и за их пределами продолжают способствовать такому сокрытию. Но это сокрытие не является функцией пола—оно гораздо глубже, и оно затрагивает всех нас. Как недавно объяснил влиятельный психиатр Роланд Саммит и его коллеги, правда о сексуальном насилии настолько ошеломляет, что это должно быть отвергнуто. “Истина не отображается не потому, что она находится на периферии крупных социальных интересов, но ведь она в самом центре, что как общество, мы выбираем вновь проект наших знаний о ней, а не внести изменения в наше мышление и наши институты и нашу повседневную жизнь, о постоянной осведомленности о сексуальном насилии над детьми.
Я считаю, что развитие знаний и теорий о сексуальном насилии над детьми-это неизменно связано с нашими желаниями смотреть правде в глаза, принять тот факт, что люди, которых мы знаем, любим и доверяем пристают сексуально к невинным детям, а столкнуться с последствиями—разоблачить и наказать их боимся.
Так почему же мы не можем противостоять правде о сексуальном насилии? Не потому, что мы не знаем, что оно есть. Не потому, что мы думаем, что это хорошо служит жертвам, а потому, как это отразиться на нас. Мы не хотим знать правду о сексуальном насилии. Мощные когнитивные и психологические стимулы существуют, чтобы ослепить нас от истины, которая, если ее признать, разрушит жизнь многих людей. Как и жертва, нам придется страдать. Возможно ли, что в глубине души мы чувствуем, что лучше, если жертвы чувствуют себя преданным, виноватым и пристыженным, чтобы нам не пришлось?
В КАКОЙ-то МОМЕНТ ВО время моих бесед с жертвами. Я спросил их, почему они разговаривают со мной. В конце концов, большинство из них раньше ни с кем не говорили о своем насилии, так почему же я? Почему именно сейчас? Ответ обычно был один и тот же: потому что они надеялись, что то, что они должны были сказать, может помочь другим жертвам в будущем. Их мужество, самоотверженность и великодушие глубоко трогали. Их слова вдохновили меня начать эту книгу, и они вдохновили меня завершить ее некоторыми мыслями. В конечном счете, в конце концов, то, что думают жертвы, важнее всего. Они люди, пострадавшие от этих преступлений, и они имеют право говорить правду и слышать правду от других. Они не могут изменить то, что произошло в прошлом, но они могут изменить то, как они относятся к ней в настоящем и что они решают с ней делать.
Пол Макхью, психиатр, философ науки и откровенный критик своей собственной области исследований, сказал, что профессия психического здоровья способна на славные медицинские триумфы и отвратительные медицинские ошибки. Он объяснил, что противоядие от этих ошибок “Спасительная благодать для любой медицинской теории практики—то, что избавляет ее от вечного рабства порывистым ветрам моды,—это пациенты. Они реальны.” Они умоляют специалистов, знать своих пациентов за то, кем они являются и для проекта любой теории, которая позволила бы свести к минимуму или игнорировать их опыт, чтобы “строить хорошие отношения с людьми, кто проконсультировался с нами—помещая их на более равных условиях с нами и призывая их подойти к нам, как если бы они были как любой другой специалист, задавая вопросы и ожидание ответов, основанных на науке, о наших предположениях, практике и планах. С помощью усилий и здравого смысла профессионалы могут построить клиническую дисциплину, которая, хотя и принесет меньше пользы моде, принесет больше пациентам и их семьям”.
Жертвы: Не ждите, когда вас спросят. Высказывайтесь, питание от ваших знаний о том, как и почему вы не были виноваты, о том, как часто и неправильно эти ПРЕСТУПЛЕНИЯ по СГОВОРУ есть, и как вам нечего стыдиться, требуйте, чтобы вас выслушали. Не ждите, пока произойдут социальные перемены. Сделай так, чтобы это случилось. Нас миллионы. При достаточном количестве жертв, информированных и наделенных полномочиями, возможны устойчивые изменения. Конец сексуальному насилию может в конечном счете прийти не от рук профессионалов или учреждений, которым они служат, а от самих жертв.
Я ХОТЕЛ БЫ ПОБЛАГОДАРИТЬ СЛЕДУЮЩИХ :
• Жертв сексуального насилия, которые позволили мне их увидеть. Их мужество, великодушие и желание улучшить жизнь других жертв послужили толчком к написанию этой книги.
• Мои сотрудники на кафедре психологии в Гарвардском университете и в Гарвардской медицинской школе. Для меня было честью работать с вами.
• Стипендия Саклера в области психобиологии, Стипендия Гарварда Эллиота и Центр женского лидерства и развития за финансирование исследований.
ПРИЗНАНИЕ Моей семье. Я не забуду их ободрения и понимание.
Мой агент, Сьюзен Арельяно. Без ее руководства, поддержки, необычайного терпения, острого как бритва интеллекта и проницательной критики эта книга никогда не была бы завершена.
Перевод: victim69